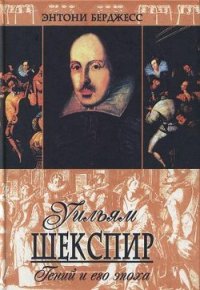Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира - Казавчинская Тамара Яковлевна
То, что предлагается читателям ниже, — это фрагмент, первая часть монолога Калибана — своеобразная кода к оденовской поэме. Риторические пассажи Калибана — с одной стороны, образцом им послужили тексты шекспировской эпохи, вроде «Отчета об истинном ходе битвы, что приключилась прошлым летом близ Азорских островов между барком 'Отмщение', одного из судов Ее Величества, и Армады короля Испании» Уолтера Рэли, где число слов в первой, витиеватейшей фразе, равняется числу потопленных англичанами кораблей испанской Армады. А с другой стороны, Оден отталкивался от формы «Стихотворений в прозе» Генри Джеймса, и перед нами — версеты. И в них Калибан, сиречь Реальность как она есть, изъясняет свое ви́дение ситуации, заданной Шекспиром. Претендуя на то, что привычное нам описание искажено и ведьма Сикаракса, от которой он, Калибан, рожден, на самом деле зовется Венерой, и он, Калибан, имеет и другое имя — Купидон. Он — эрос этого мира. И говорит он очень убедительно, заставляя (несомненно заставляя) читателя если не поверить, то прислушаться к его правоте.
В чем эта правота, мы поймем, вспомнив ранее стихотворение Одена, посвященное спору любви и времени: юный любовник поет о том, что чувство его пребудет вечно, покуда не столкнутся континенты, на улицах не запоют рыбы, а реки не перехлестнут горные вершины. Время же напоминает ему: оно все равно прервет танцы, заставит замолкнуть лучшего из скрипачей, ледник постучит в дверь шкафа, постель — вздохнет, как пустыня, а трещина на чайной чашке откроет тропу в землю мертвых… И дальше следуют две строфы:
Перевести их можно примерно так:
Но все же в оригинале есть то, что очень важно для оденовского текста, и то, что плохо ложится на русский. Оден говорит: «love your crooked neighbor / With your crooked heart» — здесь важно слово «crooked» — «кривой, перекрученный». На самом же деле, то отсылка к детскому стишку — его знают в переводе Корнея Чуковского почти все и в России: «Жил на свете человек, скрюченные ножки…» В оригинале это было: «There was a crooked man, and he walked a crooked mile»… И стихотворение Одена — о том, как ущербным, перекрученным сердцем любить таких же ущербных, перекрученных ближних. Вот об этой любви и говорит Калибан. Он — голос реальности, и Оден — абсолютно честен, стараясь прислушаться к нему, к утверждению о том, что другой любви, кроме вот такой убогонькой и ущербной, в этом мире нет и не может быть… В этом правда — правда Калибана, через Калибана сказанная и требующая для ее принятия серьезного и настоящего усилия. Калибан говорит весьма неприятные для нас вещи — но было бы слишком просто списать их на ерничанье и безобразия этого шекспировского персонажа…
Калибан — зрителям
Если теперь, отпустив наемных лицедеев с вердиктом, который простирается от поднесенных в знак признательности орхидей до тухлых яиц — ими швыряются, не в силах сдержать отвращение, а отмеченный сим подношением сам становится отвратителен, вы просите, вопреки очевидному факту его бесповоротного отсутствия, — но вы все же просите подняться на сцену нашего славного, великого и давным-давно мертвого автора: пусть встанет перед опустившимся занавесом и склонится в застенчивом поклоне, ибо кто, как не он, несет ответственность за эту последнюю, самую зрелую его постановку; и я, хоть вовсе не горю желанием, а испытывая то же смятение, что и собравшиеся в этом зале, и неотделимый от того обескураживающего образа пьесы, что сложился у вас, презренный и презираемый, отвечу на ваш крик замешательства, ибо, в силу отсутствия всемудрого и всеведущего мастера, кому же еще, как не эху его голоса, отвечать на ваш умоляющий вопрос — вы ведь так хотите все это обсудить.
Нужно признать [сейчас я озвучиваю эхо ваших голосов], все мы испытываем нервическую растерянность, отчасти — не будем кривить душой — смешанную с неприкрытой обидой. Разве можно стерпеть, что в этом его эпилоге представленный в известном образе тип творческого начала, который вы приписываете себе, удостаивается столь сбивчивой, столь робкой и малодушной защиты? Обреченные, по вашей воле, сомнениям, отягощенные, опять же по вашей воле, горестным замешательством, мы, скажем прямо, не в том положении находимся, чтобы просто так отпустить кого бы то ни было.
И наша родная Муза, видит Бог, здесь отнюдь не исключение. Что причиной тому — невинность ее детского сердца, для которого все сущее преисполнено чистоты, или свойственная ей безмятежность, порожденная высоким положением в обществе, когда ровный тон и невозмутимый облик избранных заставляют обитателей пригородов гадать, что же на самом деле думают застегнутые на все пуговицы аристократы, или все дело в грустной, преисполненной горечи Вероятности, но до иных вопросов ей нет дела — она не должна и не будет на них отвечать: с высот мудрости ей незачем судить, незачем выносить приговор, она просто придумывает, просто изобретает — милое, преисполненное сердечного великодушия создание — что до tout le monde: мнения большинства — характерным образом ее знаменитые, незабвенные, вечера, присутствовать на которых мечтают все и каждый, внимательному взгляду являют вечно-сияющее, никогда не тускнеющее доказательство одного: ее не слышат, пусть ей и дана поразительная сила соединять несоединимое, заставляя каждую краску социальной и моральной палитры работать на поистине блестящий результат, — навык этот не давался ее греческой тетушке или ее галльской сестрице, для них он был недостижим, она же, благодаря ему может на всех парах нестись к запретной невнятице, а потом, в последний момент, на вызывающем дрожь краю богемного обрыва совершить блистательный разворот, нарушая все правила — и выходя победительницей.
Для нее не существует осторожного разделения публики в зависимости от социального слоя, вкусов и прочего, ей не свойственно застенчиво прислушиваться к тем, кто не хотел бы, не мог, ни за что не стал бы подвизаться на этом поприще, у нее нет тщательно выстроенной шкалы: кого именно следует приглашать на героические вторники (вечерний костюм — обязателен), комические четверги (для детей), фарсовые субботы (al fresco). Нет, она предлагает только настоящее, приобщение к театральности как к яству, ее практика основана на правоверной присяге, а ее гремучее варево — превосходнейшего качества.
И покуда очередной гость осторожно присматривается к ней: дома у нее весьма мило, просто чудесно, столько всего вокруг, — на него, выстроившись в боевые порядки, обрушиваются трагические стенания и вопли, ряды преисполненных юмора сентенций, испеченные на скорую руку каламбуры, потоки невнятицы, притом весьма низкопробной, — но все это делается во имя одного: спектакль не может остановиться.
И если подхваченный волной ее улыбки — почему бы и нет? — гость решится исследовать ее обширный и запущенный особняк, отдав честь его милым, пусть и странным гениям-хранителям, заботящимся, чтобы дом был удобен и соразмерен, — всем этим бесконечным божкам потайных лестниц и влекущих альковов, — игнорируя заливающиеся смехом группки и поглощенные друг другом разгоряченные парочки, для которых у него есть лишь одно определение: «удивительные люди», при этом сам не переставая удивляться, но допуская куда более замысловатые отношения, о чем он догадался последним — желчный князь, расслабившийся в присутствии флегматичного дворецкого, потная рука тянется к сухой, молодость, овеянная славой и слухами, сменяется скаредной холодной старостью, он озадачен тем, что дом не кажется каким-то странным видением безмерной свободы говорить, говорить, говорить, раскачивая, но — он в этом убежден — ни в коем случае не переворачивая эту переполненную лодку.