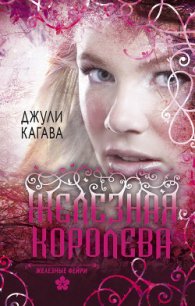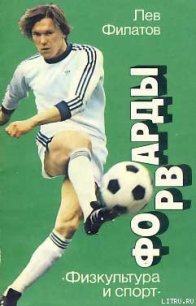Обо всем по порядку. Репортаж о репортаже - Филатов Лев Иванович (читать книги без сокращений .txt) 📗
Вот хотя бы такая задачка. Попробуйте выписать столбиком команды высшей лиги согласно вашему к ним расположению. Вверху — единственная, родимая; ниже— все остальные, которым вы симпатизируете по убывающей. В самом низу окажутся нелюбимые, а для кого-то прямо-таки невыносимые. Потом спокойно взвесьте, насколько ваше отношение к командам совпадает (или не совпадает, что вероятнее) с их общеизвестными заслугами. Легко убедиться, как много личного, не поддающегося разумному истолкованию, вносим мы в восприятие футбола. Уверен, что у кого- то на самой нижней строке окажется либо киевское «Динамо», либо «Спартак».
Задачка не ради того, чтобы укорить. Мне самому не раз приходилось ее решать, пока из лица вольного, способного нагородить в сердцах что попало, превращался в лицо ответственное за свои слова. Что-то при этом терялось. А что- то приобреталось. Думаю, приобреталось больше.
Как же это происходит? Может быть, просто с годами мы научаемся владеть собой, напускаем на себя показную должностную бесстрастность? Или футбол открывается нам в своей безбрежности, и становится нудно бултыхаться возле одного и того же дебаркадера? Не получается ли так, что в футболе мы постепенно начинаем различать кроме гула игры еще и гул времени, а это задевает не на шутку и тянет размышлять о «природе вещей», заодно проверяя самих себя? И в чем власть репортерской работы, подминает ли она нас, ограничивает, развивая сердечную недостаточность, или, наоборот, выпускает на свободу?
Желая хоть в какой-то мере разобраться во всем этом, не вижу другого способа, кроме того, чтобы восстановить все, как было, с самого начала. Когда понял, что книге подойдет название «Обо всем по порядку», я имел в виду последовательность во времени. Однако есть и иное «по порядку» — в замысле и работе. Очерк «Футбол Константина Есенина» навел на мысль о продолжении. Оттого ему и место — в начале.
Константин Сергеевич при жизни оказал мне великое множество дружеских услуг. Вот и еще одна, когда его уже нет.
Что же до вопроса «Удастся ли?», то для меня он не в авторской совестливости — ее нам не дано переступить,— а в сомнении, что сумею написать о виденном и пережитом с той непосредственностью, которой в избытке был наделен Константин Сергеевич. Но верно ведь и то, что, сидя рядом на трибуне и толкая друг друга локтями, каждый из нас подстраивал бинокль под свое зрение. Уповаю на наше равенство в привязанности к футболу.
ФУТБОЛ КОНСТАНТИНА ЕСЕНИНА
И ровесники мы с ним — все, что происходило более чем за полвека, у нас общее, сходное,— и грудились бок о бок, а в последние годы, сами того не заметив, оказались душевно близкими, дня не проходило, чтобы кто-то из нас не набрал номер телефона и не начал с вопроса: «Как вы там?». Хоть и говорят, что время лечит, мне уже не привыкнуть, что не прозвучат ни этот звонок, ни этот вопрос.
Осталось ощущение, что мы с Константином Сергеевичем знакомились трижды. А вернее сказать, я для себя трижды его открывал.
Не помню, но полагаю, что впервые мы натолкнулись друг на друга на «Динамо», в ложе прессы. И поводом скорее всего явилось то, что я встречал в газетах его подпись, а он — мою. Далеко мы не пошли: любезности, отрывочный обмен впечатлениями на ходу о матчах, о статьях.
Однажды он внезапно насел на меня.
— А ведь вы спартач, верно?
Я в молодую свою пору пуще глаза берег репортерскую нейтральность, безжалостно подавлял в себе залихватские болельщицкие вольности, которых нахватался в отрочестве, и заявление Есенина показалось мне бестактным.
— С чего вы взяли?
— Зря отпираетесь,— Есенин скрипуче, деланно рассмеялся. Он не ожидал отпора, был обескуражен: как можно не признаться в любви к «Спартаку», в той любви, которую сам он не таил, объявлял о ней первому встречному?
...Лет тридцать спустя, в 1985 году, печатно сделал он удивительное признание:
«Все человеческие впечатления, чувства обязательно субъективны. Вспоминаю ленинградскую блокаду, дни и ночи, которые надо было пережить, каждые 24 часа. А порой в затишье было грустно и наплывало былое... Иногда лезли в голову рифмы.
У каждого за спиной в те дни было «дыхание Родины огромной», но и свой дом, своя улица, товарищи, друзья.
У меня за спиной был «Спартак».
...Но в тот давний день, когда Есенин насел на меня с допросом, он, думаю, по молодости еще не отдавал себе полного отчета в глубине своего пристрастия, просто его подталкивало озорное любопытство. А я подумал: «Ему-то что, ему можно, он в редакции не работает». Да и знакомы мы были шапочно — обязанности быть откровенными между нами не существовало.
— Зря, зря. Что ж тут такого? Мы и между строк читать умеем.
Его «мы» не требовало пояснений: я знал, что у него была компания, с которой он ходил на стадион, что в этой компании Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Леонид Малюгин, Семен Нагорный. Все они состояли в спартачах, кроме Малюгина, кажется, и называли себя «пятеркой нападения Арбузова».
Позже я сумел оценить сплоченность их компании. Как-то раз на «Олимпийский» мы добирались с Константином Сергеевичем и всю дорогу судили и рядили о «текущем моменте» нашего футбола. А возвращался я с Алексеем Николаевичем Арбузовым. И пока неспешно шли к метро, и потом, стоя в вагоне, держась за поручни, он говорил о том же «текущем моменте». Я не мог сдержать улыбки, боюсь, Алексей Николаевич увидел в ней иронию журналиста по поводу рассуждений дилетанта, что было бы обидно. А улыбался я, чувствуя, что попал в милый «водевиль». Мало того, что Арбузов слово в слово повторял некоторые есенинские суждения, и интонации были те же. Все преподносилось интеллигентно, мягко, округло, но и решительно, законченно, как много раз обдуманное и обсужденное. («Что ни говори, а футбол — это, во-первых, психология, во-вторых, техника и, только в-третьих, сила. Злейшие враги красивого футбола— равнодушие, с одной стороны, и нервозность — с другой. Уверяю вас, футбол может быть красивым только в том случае, если руководители не будут придавать поражениям трагический характер. Неврастенический оттенок куда чаще ведет к поражениям, чем к победам».) Ясно было, что единогласие моих собеседников достигнуто в многолетнем общении, как бывает в благополучных семьях.
Вообще же в ранние годы нашего знакомства Константин Сергеевич в моих глазах выглядел ходячей достопримечательностью, на трибунах в его сторону кивали, о нем перешептывались.
Сын Сергея Есенина и знаменитой в довоенные годы драматической актрисы Зинаиды Райх. Отчимом его был Всеволод Мейерхольд. И знакомство он водил с людьми, известными в литературных и театральных кругах, в разговорах ссылался на Юрия Олешу, Исидора Штока, Михаила Яншина, Зиновия Гердта... Еще и фронтовой офицер — грудь в орденах, неоднократно раненный. Он рассказывал, что у него хранится армейская газета с заметкой под названием «Погиб сын Есенина», и шутил, что еще тогда, в сорок третьем, понял, что газетные ошибки пережить можно, и не слишком горюет, когда теперь сам их делает.
За всем этим терялось, казалось будничной подробностью, что он инженер-строитель (участвовал в сооружении университета на Ленинских горах) и на досуге балуется занимательными извлечениями про футбольные рекорды, парадоксы, сенсации.
В ложе прессы, где всем все известно и никого ничем нельзя удивить, где царит бесстрастная тишина и разве что изредка прозвучит язвительная острога о судье или футболисте, сыгравшем невпопад, в этом обществе знатоков и скептиков, шумный, громогласный, несдержанный Константин Сергеевич со своими невыносимо дерзкими, с потолка, заявлениями («Вот увидите, «голубенькие» выиграют и гол забьет «девятка»!») выглядел чудаковатым баловнем, с которого спрос невелик. Для тех, кто постарше, метров, он был Костенькой, они его не обрывали, не ставили на место, как непременно сделали бы, если бы так повел себя кто-то другой. Это много позже репортеры следующего поколения подсаживались к Есенину, чтобы выведать драгоценный прогноз, а комментаторы телевидения в дни, когда положение в чемпионате неимоверно запутывалось, брали у него интервью для «Футбольного обозрения», и он бесстрашно разъяснял, чем все должно кончиться. А в те годы его выкрики оборачивали в шутку. Впрочем, хотя настаивать не могу, думаю, что к нему и тогда, пусть вполуха, но прислушивались, его окаянная самоуверенность чем-то привлекала.