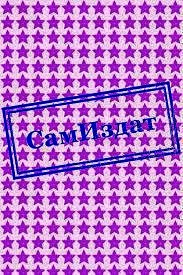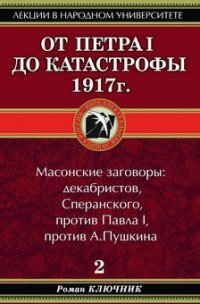Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать бесплатно книги без сокращений .txt) 📗
И со всем тем я от них ушел, должен был уйти, потому что не мог мириться с направлением руководителей. Эту молодежь воспитывали на принципах классовой розни, на чувствах вражды и ненависти; выбор пьес для игры, как и для чтения, вращался в пределах "революционного репертуара". Жалко было видеть эти юные сердца, раскрывающиеся к жизни и которые распаляются злобой. Я не стесняясь говорил им свое мнение. Уж не знаю, чем объяснить, только я никогда не испытал над своими лекциями никакой цензуры. Я говорил им, что всю жизнь относился к людям свободно, без классовых предрассудков, что не для того я испытал ужасы революции, чтобы вдруг измениться, что если я сколько-нибудь пользуюсь сочувствием моих слушателей, то не потому, что я перестал быть буржуем, не потому, что сделался пролетарием, а потому, что остался человеком, как это ни трудно по нынешним временам, когда просыпается в людях зверье. Два раза я выходил из Пролеткульта, два раза возвращался по просьбе учеников. Но в третий раз уже написал в совет обстоятельное изложение причин, по которым считаю, что мои лекции при таком направлении не нужны.
К этому прибавлялось и то еще, что как раз в это время была там поставлена пьеса "Невероятное, но возможное". Ужаснейшая пошлятина. Люди давали друг другу подколенники, ловили на себе и давили насекомых, вытаскивали друг у друга из носу что-то такое, что размазывали на ладонь и рассматривали. Одним словом, тошно смотреть было на эти достижения "пролетарского режиссера". Я написал, что для этого мои занятия не нужны. Прибежал один из преподавателей, сказал, что собирается депутация студийцев, но я просил передать, что прошу не беспокоиться, а в доброжелательстве их не сомневаюсь и ухожу не из-за них. Встретил как-то через несколько месяцев целую гурьбу пролеткультцев на бульваре: "Ну уж как вы там хотите, Сергей Михайлович, а в будущем году выбудете у нас"...
Я не у них, я совсем в другом месте; но я бы хотел, чтобы, если когда-нибудь эти строки попадутся кому-нибудь из них, хотел бы, чтобы они знали, что, за исключением двух моих лучших учеников и продолжателей моего дела, Фишерова и Маркова, о которых скажу ниже, они, пролеткультцы, лучшее мое воспоминание в том царстве зла и смерти, что именуется РСФСР. И в этом моем воспоминании о них я выхожу за пределы лекций и студийных занятий: память их мне дорога не как лектору только, а как русскому человеку, который в море мрака и гнили, заливающем родину, озирается на то единственное, что вызывает искру надежды.
Я бы хотел назвать нескольких из них, тех, имена которых помню. Для читателя это будет, может быть, неинтересно; но, не знаю почему, иногда записки мои в моих глазах приобретают что-то загробное. Часто там мне казалось, что я никогда не увижу остального мира Божьего, и часто, даже всегда, здесь мне кажется, что я уже никогда туда не попаду. Четыре года я жил с мыслью о неизменной окончательности моего положения, и когда я писал, у меня было такое чувство, что я пишу не перед могилой, а уже из-за могилы. Вот это чувство просыпается во мне всякий раз, как прикасаюсь к таким воспоминаниям, которые остались как дорогие проблески во мраке. Я хотел бы подчеркнуть разницу между тем, от чего я бежал, и тем, от чего мне грустно было уходить. Читатель простит, если я ему скажу, что, когда я в таком "загробном" настроении, меньше меня интересует тот, кто меня читает, нежели тот, о ком пишу. Вот почему часто проходят под пером и ложатся на бумагу имена, которые ничего не скажут читателю, потому что я и сам не могу большего о них сказать, как то, что они мне памятны...
Был староста нашей группы, Сидельников; большой, с немного тупым лицом, не очень послушным голосом; но замечательно одаренный для пластики. Из него вышел бы прекрасный мимист. В нашем ритмическом представлении, которое мы дали и дважды повторили в театре Зона, он изображал Вождя в мимической картине, сочиненной Ниной Георгиевной Александровой, нашей главной ритмичкой в Москве. В нем было что-то индейское; он был бы великолепен краснокожим и с перьями на затылке. Он был коммунист, пошел добровольцем и погиб на льду под Кронштадтом при последнем восстании...
Был длинный, долговязый Языканов, заменивший покойного Сидельникова в Вожде. Светлая природа, чистая...
Маленький Алексей Матавин был тонко чувствующий, впечатлительный к красоте; отличный ритмист.
Был Григорьев, бывший когда-то учителем, хорошо, тепло и с пониманием говоривший о детях. Это тот, который мне читал протокол заседания...
Был и другой Григорьев; мы звали его "Гриша". Милый, замечательно аккуратный, так что занимал даже какую-то по Пролеткульту должность, выдавал какие-то свидетельства, подписывал бланки. И наш "Гришенька" был не совсем безразличен к некоторому почету, связанному со всяким званием: он все-таки чувствовал себя маленьким органом советской власти; но это было не из чванства, а только вследствие природной скромности его и необыкновенно совестливого отношения к обязанностям. Его все любили...
Прекрасный малый был Носов, разумный, с ясными взглядами. Вспоминаю о нем еще с особенным интересом потому, что, выходя с большой нашей ритмической демонстрации, он сказал мне: "Я в первый раз понял, что значит, когда говорят, что искусство облагораживает душу..."
Было двое Тумановых: один просто Туманов, а другой "Туманов с трубкой". Последний был молчаливый, все вслушивался да присматривался. Раз спросил его: "Отчего вы, Туманов, никогда не отвечаете? Я ведь и не знаю даже, знаете ли вы или не знаете. Могу подумать, что вы безучастны". Он показал мне свою тетрадь, в которой все было записано и которая свидетельствовала о вдумчивом внимании.
Был Петров, человек с волей и врожденным чувством порядка.
Вот. Имен больше не помню, но это не значит, что забыл людей. Не скажу, чтобы искусство от них со временем выиграло, но Россия когда-нибудь о них возрадуется... Возрадуется, если их не успеют испортить. В той атмосфере, в которой проходит их умственное развитие, они получают готовые формулы мышления, прежде чем успели сами мыслить; они получают готовые оценки прежде, чем успели умственно расцвесть. Коммунистические теории им навязываются, они их хватают и повторяют, не претворив в себе, без всякого личного творчества. Они превозносят футуристических поэтов, не испытав еще прикосновения красоты. Они судят раньше, чем думали, они восхищаются, не испытав восхищения. Мысль предшествует чувству, слово предшествует мысли, суждение основано на доверии, определяется желанием не отстать от "моды". Когда некоторые превозносили Маяковского и презрительно складывали губы, произнося имя Пушкина (таких было очень немного), я им говорил:
-- Как вы думаете, что нужно для того, чтобы судить?.. По-моему, два условия нужны: нужно знать и нужно иметь, с чем сравнивать. Не обижайтесь, но много ли вы знаете, много ли вы видели?.. Я вырос в семье, где жили литературные, художественные интересы; в доме родителей моих бывали Тургенев, Майков, Полонский, Некрасов; Владимир Соловьев, философ и поэт, был свой человек; лучшие умы, артисты, музыканты, все бывали у нас. Изъездил я всю Европу, перевидал и переслушал лучшее, что было в музеях, выставках, концертах, театрах. Доступны мне кроме родного четыре языка, что можно было, перечитал по интересующим меня вопросам. И между тем я уже за тридцать перевалил, когда только начал признавать за собой право суждения, а книги мои, которые ваши же библиотеки покупают по двадцать тысяч за том, я писал в сорокалетнем возрасте... Узнайте сперва; узнавши, испытайте, все равно -- восхищение или омерзение, только испытайте собственное ваше чувство и тогда выразите его как умеете. Но не повторяйте чужие слова, да еще такие иностранные, мудреные, что и не поймешь ничего... Вот из вас сейчас кто-то сказал "продуктивный"; а что значит "продуктивный"?