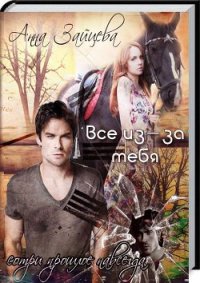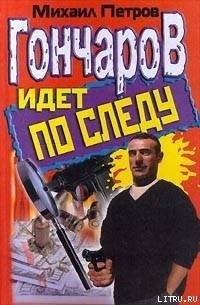Гончаров - Лощиц Юрий Михайлович (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
Незлобивую эту сатиру на самих себя Майковы приняли с восторгом. Автор «Лихой болести» не просто потешил слушателей. Первый прозаический опыт его — лучшее из беллетристических сочинений «Подснежника». Ему нужно писать еще и еще. Это его стезя, его планида. Он не просто самая яркая литературная звезда салона. Он, без преувеличения можно сказать, надежда отечественной письменности. Да, да, нечего отмахиваться! Пусть только попробует он теперь не писать прозу, Тяжеленно этакий!..
Сколько таких вот блаженных вечеров пронеслось незаметно в доме на Садовой улице! Сколько туч провлачилось тем временем над крышами города, дождевых и снежных, однообразно угрюмых. Да и иных всяческих туч… Спасибо славным Майковым! В их уютном жилище, где гостю никогда не было зябко и голодно, где никто его ни к чему не принуждал: хочешь — сиди с дамами за чайным столом, хочешь — пойди в мастерскую или в любую иную из просторных, с высокими потолками комнат, где молодежь поет куплеты либо степенные гости обсуждают внутри- и внешнеполитические события, хочешь — влюбляйся, а хочешь — уединись и дремли, полулежа на диване в каком-нибудь из темных закутков, — словом, как хочешь, так и поступай, только не хмурься, не грусти, не хандри, — в этом их доме он переждет непогоду первых своих самостоятельных лет вдали от материнского крова. В этом доме будут бескорыстно радоваться его будущим писательским успехам, его продвижению по службе. Здесь будут искренне переживать по поводу его сердечных невезений. С волнением ожидать его писем, помеченных штемпелями почтовых агентств южного полушарии.
Суматошные, шумные, разнообразно и взахлеб даровитые, нежные и трогательные, открытые и неизменно постоянные в своем чувстве к нему Майковы, до свидания, до встречи, до завтра, до послезавтра, до новой радости!…
Если бы знать все наперед…
«И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал… Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины… Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери!»
Так и не подошел он к живому Пушкину. Хватало ему и того, что знал всем своим существом: он где-то рядом, вблизи. И делалось легче. Незримым присутствием Пушкина был напитан воздух в доме Майковых. Весь этот город был как бы навеян его стихами: и мощные набережные, и гранитный столп посредине Дворцовой площади, и шумы лип в Летнем саду, и — в разрыве туч — холодный закатный свет над серой пустыней залива.
И вот теперь, когда егоне стало, все это, навеянное его стихами, тоже должно бы исчезнуть. А оно не исчезает, стоит в какой-то нерешительности: существовать дальше или нет?.. Столп. Здания. Колонны. Мосты. Шпили… Странно.
От заснеженной Дворцовой площади виден каменный изгиб Мойки. Там, в тесном пространстве между решеткою набережной и стенами домов, безмолвная, шевелится темная толпа. Медленно движутся к егодому. Тщедушный свет январских сумерек на глазах отлетает, как будто закрывают дверь, и осталась только узкая щель, и в нее дует.
СОМНЕНИЯ
Чем дольше находился Иван Гончаров в Петербурге, тем отчетливей видел: жизнь складывается совсем не так, как ему в свое время мечталось. Служба была ему скучна, как и всякая служба, которая не занимает всех помыслов, чувств и вожделений. Есть артисты службы, для них она подобие творческой игры. Им и карты в руки. Есть гении-чиновники, и слава богу, что они есть, потому что без них, пожалуй, моментально бы замерла деятельность всех отсеков государственного корабля. Есть поэты бюрократии, их имена обычно неизвестны широкой публике, она даже привыкла их поругивать, хотя и живет изо дня в день по сюжетам, разработанным ими.
Словом, он не был из тех, кто всякое государственное учреждение считал фабрикой ненужных циркуляров. Если страна, тем более такая большая страна, не хочет назавтра превратиться в неуправляемое и беспомощное пространство, ей нужны чиновники, маленькие и большие, но обязательно толковые, любящие свое дело.
Но сам себя он толковым чиновником считать не мог — именно потому, что дела этого не любил. Переводить на русский язык прозу немцев или французов было ему куда приятней, чем статьи немецких, французских и английских экономистов, пусть даже и чрезвычайно умные статьи.
Как прикажете совмещать службу и страсть к писательству? Мрачный мэтр немецкого романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман, почти всю жизнь тянувший ненавистную лямку чиновника, нашел выход в крайнем литературном отщепенстве, в богемно-мистическом разгуле. Пример заразительный! Сколько потом юнцов полетело по следам Гофмана: если ты гений, будь вызывающе одинок, противопоставь себя безликой толпе, целому обществу, всему своему веку, смело преступай общепринятые нормы, пей до белой горячки, подружись с темными ангелами безумства, сделайся сам себе богом!…
Гончарова такой путь не прельстил. Ни в молодые годы, ни позже он не впал в грех художнического высокомерия. Похоже, у него были врожденный талант гармонической уравновешенности, чувство меры и такта по отношению к прозаически-заурядным людским занятиям, какими бы «низкими» ни казались они сравнительно со «священнодействием» художника.
И все же службу свою он не любил. Она не могла насытить его полностью и мешала полностью насытиться писательством. Не насыщала она и в материальном смысле. Жизнь в столице оказалась куда дороже, чем он мог предполагать. При поступлении в Департамент внешней торговли ему назначили годовое жалованье всего-навсего в 514 рублей 60 копеек, итого в месяц выходило менее пятидесяти рублей. На регулярную помощь из дому рассчитывать не приходилось — большой симбирский дом существовал теперь в основном на доходы от двух трегубовских деревень. Кое-какой приработок давали Гончарову уроки. На частые гонорары надежд не было. Мы не знаем даже, предлагал ли он в эти годы что-нибудь из написанного петербургским журналам. Скорее всего на такой вопрос следует ответить отрицательно. Судя по тому, что первый большой очерк Гончарова «Иван Савич Поджабрин», написанный в 1842 году, отдан автором в печать лишь спустя шесть лет, начинающий прозаик еще очень нерешителен и работает преимущественно «в стол». А многое, видно, и «в стол» не попадает: «Кипами исписанной бумаги я топил потом печки».
Бумагой, однако, много ли натопишь? Заботы о дровах на долгие месяцы питерских непогод также обременяли его бюджет. Но более всего денег у молодого человека уходило на одежду. Быть вхожим в приличные дома, служить в министерстве — это требовало первоочередного внимания к собственному туалету. Лучше недоедать каждый день, чем появиться хоть раз в департаменте или в чьей-либо гостиной с лоснящимися локтями и в насквозь сырых, расквашенных сапогах. Но даже экономия в еде не помогала, когда заходила речь о приобретении новой теплой шинели. Тут уж надо искать портного посговорчивей, чтобы принял заказ в долг.
В сентябре 1840 года, то есть пять лет спустя после поступления в Министерство финансов, Гончаров был «за отличную усердную службу» пожалован в титулярные советники. С такой скоростью продвижения по лестнице чинов ни на какую «карьеру» рассчитывать не приходилось. Ведь одно из главных значений слова «карьера», как он знал, именно и есть скорость.
Разговоры о карьере были излюбленной темой в кругу его сослуживцев. Французское это словцо, взятое из лексикона скаковых состязаний, произносилось тут с самыми различным интонациями — от шутливо-небрежных до откровенно завистливых или восторженных. В иных устах оно звучало на совсем уж циничный лад: вырваться вперед, обскакать соперников на всем ходу, посмеяться над тем, кто отстал и исчез в тучах взбитой пыли… Более умные произносили это слово иронически и всегда о ком-то третьем: «онделает карьеру». Но нетрудно было догадаться, что и их гложет та же забота. А где же понятия о бескорыстном служении добру? Или все эти высокие слова — пища для одиноких, нелепых в своей обманутости донкихотов?.. Как горько, однако, осознавать беззащитность юношеских надежд… Еще и поэтому не любил он свою службу.