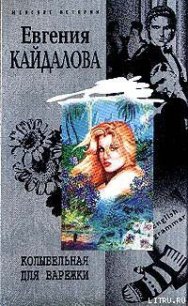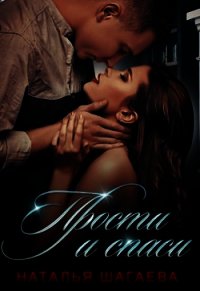Почти серьезно... - Никулин Юрий Владимирович (книги бесплатно .txt) 📗
Командование нас предупреждало, что никакие продукты, найденные в финских домах, есть нельзя, они, мол, все отравлены. Поэтому все замерли, когда с наблюдательного пункта нам прислали бочонок с медом, взятый в одном из финских домов. Все стояли и смотрели на него со страхом. Обстановку разрядил длинный белобрысый разведчик Валя Метлов. Он зачерпнул мед столовой ложкой, отправил его в рот, а затем, облизнув ложку, авторитетно заявил:
— Не отравлено.
Через полчаса бочонок опустел. Никто не отравился.
Я скучал по дому. Часто писал. Писал о том, как осваивал солдатскую науку, которой обучал нас старшина.
Оказывается, из — за портянок, которые надо наматывать в несколько слоев, обувь полагается брать на размер больше. И хотя многое из премудростей солдатской науки я освоил, все — таки однажды сильно обморозил ноги.
Нам поручили протянуть линию связи от батареи до наблюдательного пункта. На мою долю выпал участок в два километра. И вот иду один на лыжах по льду Финского залива, за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем. Не прошло и получаса, как почувствовал страшную усталость. Поставил катушки на лед, посидел немного и пошел дальше. А идти становилось все трудней.
Лыжи прилипают к снегу. Я уж катушки на лыжи положил, а сам двигался по колено в снегу, толкая палками свое сооружение. Вымотался вконец. Снова присел отдохнуть, да так и заснул. Мороз больше тридцати градусов, а я спал как ни в чем не бывало. Хорошо, мимо проезжали на аэросанях пограничники. Когда они меня разбудили и я встал, ноги показались мне деревянными, чужими. Привезли меня на батарею.
— Да у тебя, Никулин, обморожение, — сказал после осмотра санинструктор.
Отлежался в землянке. Опухоль постепенно прошла. Исчезла краснота, но после этого ноги стали быстро замерзать даже при небольшом морозе.
Как только началась война, нам ежедневно выдавали по сто граммов водки в день. Попробовал я как — то выпить, стало противно. К водке полагалось пятьдесят граммов сала, которое я любил, и поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые сто граммов: в этот день мне исполнилось восемнадцать лет. Прошел ровно месяц со дня призыва в армию.
В отдельном маленьком помещении на батарее, напоминающем каземат, круглые сутки сидели дежурные телефонисты.
У телефона часто приходилось дежурить и мне. Наши позывные — «Винница». В трубке то и дело слышалось: «Армавир», «Богучар», «Винница», как слышите?»
Я докладывал:
— «Винница» слышит хорошо.
Иногда раздавалось: «Армавир», «Винница», «Богучар» — тревога!»
И дежурный телефонист объявлял на своей батарее тревогу.
В ту зиму стояли страшные морозы. И хотя на дежурство я приходил в тулупе, под которым были телогрейка и шинель, на голове шерстяной подшлемник, буденовка, на ногах валенки, холод, казалось, проникал до костей. В телефонке еле — еле горела, скорее мерцала, маленькая лампочка, бетонные стены покрыты сверкающим инеем. Печку топить не разрешали. Это могло нас демаскировать. Иногда возьмешь газету и подожжешь. На секунду становилось теплее, а потом холод казался еще сильнее.
Я знал в армии многих людей, которые редко вспоминали родной дом. А я скучал, грустил. Сидишь ночью на дежурстве и невольно думаешь о Москве. Иногда закрываю глаза и мысленно иду пешком по Комсомольской площади.
Отчетливее всего при этом видишь стадион, поворачиваешь направо, проходишь мимо редакции одной из московских газет, минуешь строящийся дом, останавливаешься у мясного магазина, проходишь мимо парикмахерской, в которой мы всегда с отцом подстригались у одного и того же мастера. (Во время стрижки парикмахер рассказывал забавные истории, а также сообщал новости из жизни своего сына, которого я никогда не видел, но отлично знал по рассказам.)
От таких воспоминаний становилось легче, как будто действительно побывал дома.
О жизни родных я знал все до подробностей. Писем получал больше всех на батарее. Многие мне завидовали. Писали мне отец с матерью, тетки, друзья и даже соседи.
Сижу в телефонке в продолжаю «путешествие» домой. Вот прохожу мимо гастронома. Меня встречает отец. Мы с ним, как и раньше, идем в магазин и покупаем вкусное к чаю: сто пятьдесят граммов печенья, сто граммов «подушечек», сто граммов халвы. Потом прохожу мимо аптеки и сворачиваю в Токмаков переулок. Останавливаюсь около нашего дома.
Воспоминания прерывает телефонный зуммер: — «Винница», доложите обстановку.
— Разведчик, разведчик! — кричу я в переговорную трубу, которая соединяла меня с постом разведчика наверху.
Никакого ответа. — Разведчик! — кричу я что есть силы. Наконец в трубке слышится хруст снега под валенками.
— Ну, чего орешь, чего орешь? — доносится голос разведчика.
— Доложите обстановку.
— В воздухе все спокойно.
— В воздухе все спокойно, — повторяю я его слова в телефон и смотрю на будильник, лежащий боком — иначе он не ходил, — мне остается дежурить еще два часа.
Наша батарея продолжала стоять под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду, а почти рядом с нами шли тяжелые бои по прорыву обороны противника — линии Маннергейма.
В конце февраля — начале марта 1940 года наши войска прорвали долговременную финскую оборону, и 12 марта военные действия с Финляндией закончились…
Нашу часть оставили под Сестрорецком.
Жизнь на батарее проходила довольно весело. Некоторые мои сослуживцы взяли из дома музыкальные инструменты: кто мандолину, кто гармошку, была и гитара. Часто заводили патефон и слушали заигранные до хрипа пластинки — Лидии Руслановой, Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина… Когда все собирались у патефона, то дело доходило чуть ли не до драки: одни — в основном ребята из села — требовали в сотый раз Русланову, а нам, горожанам, больше нравился Козин. А на соседней батарее где — то достали целых пять пластинок Леонида Утесова. Мы соседям завидовали.
Позже появились пластинки Клавдии Шульженко. Все с наслаждением слушали ее песню «Мама». Мне казалось, что эта песня про мою маму.
Так и проходили наши солдатские будни: учения, политинформации, боевая подготовка.
Командир огневого взвода лейтенант Ларин забавно говорил вместо «огневики» «угневики».
Вызовет он, бывало, помком — взвода и говорит:
— Соберика — ка угневиков, я им прочту профилактику.
Когда все собирались, он начинал свою «профилактику»:
— Что же получается, товарищи? На седьмой батарее — прогресс, а на нашей — агресс.
По натуре Ларин человек добрый, отзывчивый. Начав службу давно, он только к сорока годам стал лейтенантом, и мы считали его пожилым. До всего он доходил, как говорится, собственным горбом. Бывало, стоишь на посту ночью, а сквозь ставни домика комсостава пробивается свет — это учится Ларин.
Порой, жарко натопив печь, лежа на нарах, мы любили рассказывать анекдоты и солдатские истории.
Однажды со старослужащим Гусаровым мы поспорили на десять пачек папирос «Звездочка» (я не курил, но тем не менее условие спора принял), кто больше из нас знает анекдотов.
После отбоя легли на нары и начали рассказывать. Он начинает, я заканчиваю. Мол, знаю анекдот, слышал его. Он новый начинает — я опять говорю конец анекдота. Тогда Гусаров предложил:
— Давай ты начинай. Выдаю первый анекдот. Он молчит. Не знает его.
Рассказываю второй, третий, пятый… Все хохочут. А он не знает их.
Выдаю анекдоты один за другим. Полчаса подряд. Час. Два. Смотрю, уже никто не смеется. Устали смеяться.
Многие засыпают. В половине четвертого утра Гусаров сказал:
— Ладно, кончай травить, я проиграл.
— Подожди, — говорю, — есть еще анекдоты про пьяных, детские, иностранные.
— Нет, — отвечает Гусаров. — Не могу больше, спать хочу.
Так я выиграл спор. Но никто не знал, что в армию я взял с собой записную книжку, в которой было записано полторы тысячи анекдотов. Перед поединком, естественно, я их просмотрел.