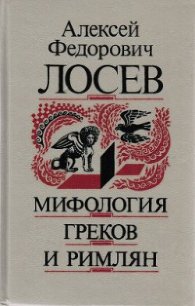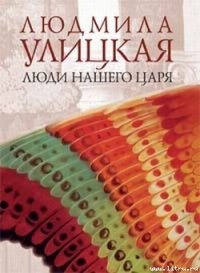Лосев - Тахо-Годи Аза Алибековна (мир книг .txt) 📗
Однажды с позволения Азы Алибековны мне пришлось извлечь пачку для дел насущных. Было 12 апреля 1997 года; понадобился сборник-раритет «Из глубины», а в нем, между прочим, статья Вяч. Иванова «Наш язык». Где-то в середине сборника неожиданно обнаружились два старых театральных билета: Государственный Академический Большой театр, концертный зал имени Бетховена, два места в ряду № 3, штемпель «22 апр. 1921». Нет сомнений, эти памятные билетики вложила бережная рука. Чуть больше года спустя после того концерта Алексей Федорович и Валентина Михайловна поженились. А невзрачные кусочки бумаги многое сообщали и обещали им. Впереди ждали многочисленные испытания и беды, о которых они, наверно, не догадывались и не могли догадываться, но главное, самое главное знали уже тогда: будем вместе.
Помнится, в тот отмеченный день 1997 года один из присутствовавших при разборе раритетов с верхней полки со смехом сказал:
– Ну, теперь Виктор как заядлый архивист немедленно бросится узнавать, какой именно концерт тогда шел…
Почему-то бросаться не захотелось. Хотя и не слишком трудное было бы деяние – в Москве более чем достаточно музеев, архивов и частных коллекций, где можно отыскать нужную афишу 1921 года. Не захотелось, вернее, не смог себя заставить. И долго не осознавал, почему. А ответ нашелся четыре года спустя при посещении музея о. Павла Флоренского (на Плющихе), того самого священника, который венчал молодую чету Лосевых в Сергиевом Посаде.
Среди многих фамильных реликвий музей хранит давно засохший листок клубники с единственной едва приметной особенностью. Вместо обычных трех лепестков-лопастей у него в наличии четыре. Когда-то о. Павел загадал «на счастье», пошел судьбу под ногами высматривать. Мол, найду с лишним лепестком, быть загаданному. И нашел.
Тем подтверждается: судьбоносными символами могут стать самые простые вещи. Но становясь таковыми, они не терпят изменений, дополнений и пересмотров. Всякая бесконечность (а символ – бесконечен) незыблема. Попробуй-ка, к примеру, оторвать тот лишний лепесток!
Ничего не добавляла к большому и эта малость, выяснять или нет старый репертуар концертного зала. Где-то во глубине, перед внутренним взором надежно встал и всему довлел образ вполне заданного жеста билетерши: сложить билетики вместе, привычно согнуть их по верхнему левому углу и тут же слегка надорвать. Сразу оба и навсегда. Всякий символ – соединение, а здесь явлен еще и символ соединения.
…А, правда, надежды – реальность? И верно – нет знаков без смысла? Пути в океанах разлуки, следы по воде – на века останутся. В этом и хитрость. Поэтому слышно, как близко сходились не руки, а звуки и таяли, как облака.
«Поближе к древним грекам и римлянам, подальше от табу и тотема» – многие ли принимали да и сейчас принимают ли этот «окрик» Поля Фукара, адресованный исследователям античности? Как мало кто другой, Лосев потратил огромные усилия именно на то, чтобы отнестись к наследию прошлого бережно и всерьез, по существу, а не довольствоваться пустыми побасенками либо свысока и просвещенно («просвещенски» – ходовое лосевское ругательство) бросать предшественникам упреки в недосмотрах и заблуждениях.
Лосев выискивал ценное зерно даже тех древних построений, к которым современные мыслители часто не знают как и подступиться. Например, он убедительно показал (подобных находок на его счету много), какой смысл имеет загадочное утверждение Платона о том, что удовольствие, испытываемое тираном, ровно… в 729 раз меньше удовольствия законного царя. «Во всякой фантастике есть своя внутренняя логика, которую надо вскрыть и точно проанализировать, – этим энергичным лозунгом, провозглашенным еще в первой книге 1927 года, исследователь руководствовался всю свою долгую жизнь.
Всю свою долгую жизнь твердил Лосев об автономии и самоценности мифа, как античного, так и любого нового, например, социалистического или позитивистского (думаете, шли от мифа к логосу и потом к логике? от мифа к мифу наш путь!). Миф объясняется из мифа же, миф надо видеть сам по себе в пределах определенной культуры. А если выносится некое суждение о частном факте, то всегда следует трезво учитывать, от имени какой мифологии или в рамках какой мифологической общности выступает сам рассуждающий.
Сколько крови стоила Лосеву эта прозрачнейшая методология! И сколько раз на протяжении жизни ему пришлось в разных вариациях ребром ставить один и тот же вопрос, – как он однажды задавался в «Дополнении к „Диалектике мифа“», в книге, лишь отчасти уцелевшей под натиском очередной тотальной мифологии: «Мыслим ли Сократ в трамвайном вагоне, Платон на аэроплане и Фома Аквинский на велосипеде? Мыслимо ли вместо церковной лампады и восковой свечи электричество, вместо ладана – табак или одеколон, вместо рясы – френч и толстовка? Мыслим ли немецкий профессор в Диогеновой бочке, современный дарвинист – как участник в радениях дервишей, русский большевик – в качестве Фиваидского старца?»
Кажется, яснее всего лосевское отношение к «чужой» культуре выступало в его новаторских переводческих приемах (теперь-то они используются многими). Можно же идти прямолинейно, переводя некоторое сочинение филологически точно, максимально дотошно и в итоге, как правило, не всегда понятно. А можно пуститься кружным философски-интерпретаторским путем, тогда достигается кажущаяся понятность, но лишь потому достигается, что на деле выходит не перевод, а в лучшем случае пересказ или, паче чаяния, отсебятина. Лосев хочет по возможности совместить преимущества обоих путей. Для этого, во-первых, исходный более-менее буквальный перевод по необходимости уснащается дополнениями переводчика, причем они прямопоказывающе выделены квадратными скобками. Во-вторых, для «анализа хода мыслей», по выражению Лосева, полезно вводить «многочисленные разделения и подразделения, разрядки и курсивы, дающие возможность читать и понимать текст с разной степенью детализации». В таком трансформированном переводе, сработанном, как видим, по весьма щадящей технологии, вполне разборчиво и вполне достаточно указывается, где чей голос и вклад.
Простые квадратные скобки, как и нехитрые приемы членения текста, если они в умелых руках – это надежная «машина времени», орудие понимания, действенный метод борьбы против мертвящей редукции и выравнивания культур.
Почти весь тираж «Диалектики мифа» издания 1930 года, как известно, был изъят и уничтожен сразу после выхода книги из типографии. Почти – удивительным образом все-таки уцелело несколько экземпляров. Проследить путь каждого из них было бы, думается, интереснейшей и едва ли не детективной, но уж точно поучительной задачей. И задачей, вместе с тем, весьма не простой: в биографию этих гонимых книжек наверняка будут вплетены многие людские судьбы с их горькими событиями личного опыта на фоне общей (запутанной и трудной) истории XX века.
Много легче, но тоже поучительно заняться несколько иным поиском, вернее, подсчетом. Что, поинтересуемся, произошло с книгой, которая планировалась к выходу количеством всего-то 500 экземпляров и в итоге вообще была обречена уйти в небытие? Случилось так, что пусть и не целиком, но в отдельных своих положениях она вполне дошла до самого массового читателя. Цитаты из «Диалектики мифа» многократно умножились на страницах советских газет и в специальных изданиях материалов XVI съезда ВКП(б). Цитировали и автора книги отнюдь не дружественно поминали, напомним, тов. Каганович («Организационный отчет Центрального Комитета») и тов. Киршон и тов. Стецкий (прения по «Отчету»). Тираж цитат мы теперь и подсчитаем.
Начать естественно с газеты «Правда», которая изо дня в день публиковала доклады и выступления очередного партийного форума. Непосредственно в самих изданиях привычные нам теперь выходные данные указывать тогда не было принято. Однако делу сможет помочь доклад все того же Кагановича, между прочим сообщающий о росте тиражей центральных газет СССР. В частности, читаем в «Отчете», тираж «Правды» увеличился с 864 000 (январь 1930 года) до 1 500 000 (июнь).