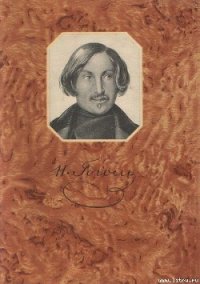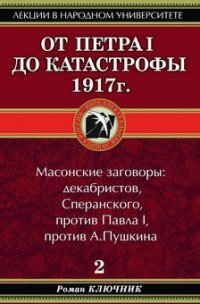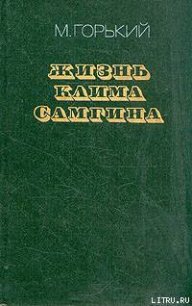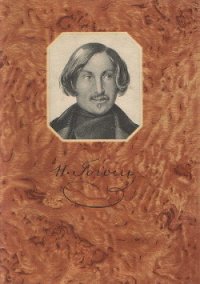Гоголь - Золотусский Игорь Петрович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
И каждая из сторон (за исключением стороны консервативной) увидела в Гоголе неискренность. Это был самый сильный удар для него, ибо он, что называется, распахивался, открывая душу, а ему плевали в душу, отвечая, что это не душа говорит, а дьявольская «прелесть», ханжество, себялюбие, «сатанинская гордость».
«Тяжелое и грустное впечатление, — писал Ю. Ф. Самарин, — ...гордость, гордость отшельника, самая опасная из всех гордостей, затемняет его сознание о его призвании... все это не из души льется... Меня особенно поражает отсутствие потребности сочувствия с публикою...» «Это — хохлацкая штука, — как бы откликался ему старик Аксаков, — ...не совладал с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства».
Его сын Константин был мягче, его любовные упреки Гоголю были справедливы: «Вы поняли красоту смирения... Перестав писать и подумав о подвиге жизни, Вы, в подвиге Вашей жизни, себя сделали предметом художества... Художник отнял у себя предмет художественной деятельности и обратил свою художественную деятельность на самого себя и начал себя обрабатывать то так, то эдак». К. Аксаков писал Гоголю, что в его любви нет «простоты» и «невидности».
Другие отзывы были жестче. Гоголя в статьях и письмах называли Тартюфом, Осипом, Тартюфом Васильевичем, Талейраном, кардиналом Фешем и т. д. Все это были величайшие ханжи, обманщики и лжецы.
Именно после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями» было повсеместно объявлено, что Гоголь... сошел с ума.
«Говорят иные, что ты с ума сошел», — писал Гоголю С. П. Шевырев. «Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросами: „...правда ли это, что Гоголь с ума сошел?“ — передавал ему мнения заграничных русских В. А. Жуковский. „Он помешался“, — записал в своем дневнике М. П. Погодин, прочитав в „Переписке“ статью о себе. „Гоголево сумасшествие“, „помешательство“, „сумасшедший“ — эти слова наполнили семейную переписку Аксаковых. „...Все это надобно повершить фактом, — заключал С. Т. Аксаков, — который равносилен 41 мартобря (в „Записках сумасш[едшего]“)“.
Если ранее подобные объяснения поступкам русских писателей (например, «Философическому письму» П. Я. Чаадаева) давали власти, то теперь это делалось добровольно и во всеуслышание самими читателями — читателями и почитателями, еще вчера видевшими в Гоголе надежду России.
То, что принесли первые вести с родины, было для Гоголя полной неожиданностью. Кто хвалил книгу? Фаддей Булгарин. Кто ругал? Почти все бывшие поклонники. Булгарин публично потирал руки и хвастал, что Гоголь сделал то, что Булгарин ему и предсказывал: признал свои прежние творения «грязными»: Ф. Ф. Вигель, некогда порицавший «Ревизора» и говоривший, что это молодая Россия во всей ее отвратительности и цинизме, благодарил Гоголя за его новые верования.
Даже люди духовного звания, на которых Гоголь более всего рассчитывал, не приняли «Переписку». Отец Матвей, протоиерей ржевский, с которым Гоголь заочно познакомился через А. П. Толстого и который был отрекомендован ему как человек безупречной честности, писал, что книга вредна и сочинитель даст за нее ответ перед богом. Он советовал Гоголю бросить поприще литератора и удалиться в монастырь. В то время как он давал эти советы, по Москве и Петербургу ходили слухи, что Гоголь или постригся, или давно уже проводит время с монахами. В одном из анекдотов юмористически описывались его беседы в среде аристократов.
«Он иначе не ходит, как потупя взор, и ему говорят тихо, с подобострастием: Николай Васильевич, Николай Васильевич, хорошо ли это блюдо? а он, кушая, отвечает: Софья Петровна (сестра А. П. Толстого. — И. 3.), думайте о душе вашей...»
Не было, кажется, ни одного сословия в России, куда бы не попала хотя бы одна гоголевская мысль, где не были бы встревожены десятки лиц. 2400 экземпляров разошлись полностью. Книгопродавцы брали их под самые низкие проценты, половину раскупила Москва, половину Петербург. Негодовали и читали, отлучали и читали. Тартюф и Осип задевал что-то такое в русской душе, на что она не могла не откликнуться. Посреди неумеренностей, оскорбляющего поучительства, ослепления личным своим состоянием слышалось нечто задирающее за сердце, пусть вызывавшее гнев, но свое — то не француз писал, не посторонний, а тот, кто болел за свое, и эта боль передавалась.
Первыми почувствовали и поняли ее «старики». То были люди пушкинского поколения, люди уходящей эпохи. У них за плечами была прожитая жизнь, и они увидели прожитое и пережитое в книге Гоголя. Лучшей из всего написанного Гоголем назвал ее А. И. Тургенев. В этой книге «душа видна», говорил он. Вяземский написал статью «Языков и Гоголь», посвященную «Выбранным местам». Вяземский писал о «Переписке» как о «поприще, озаренном неожиданным рассветом». Чаадаев отдал должное автору книги: «Он тот же самый гениальный человек, который и прежде был... и теперь находится выше всех своих хулителей».
Столь же глубоко сочувствовал идеям Гоголя и Жуковский. Он лишь огорчался, что Гоголь «поспешил», не совладал с «формою» и «формою» книги ввел многих в раздражение. В этом отношении Жуковский был прав. Но книга Гоголя не была бы русской книгой, если б она была согласно состроена и выстроена.
Не все еще выстроилось в душе автора, и не мог он привести в соответствие и гармонию раздиравшие его чувства — так и выдал, как может выдать только русский писатель, который весь на миру, который живет и пишет для мира, а иначе не мыслит своего существования. Даже Жуковский не понимал, что то был разрыв круга, выход за пределы его и святая крайность.
Счастье этого несчастного сочинения Гоголя было в том, что, написанное за пределами России, оно было чисто русское — и оттого так ахнула Русь, узнав в ней себя. «Глубоко ты вынул это из нашей жизни, которая чужда публичности», — объяснял Гоголю Жуковский реакцию публики.
Публичность гоголевской исповеди была одной из причин неприятия ее. И не только потому, что к этому не привыкли, что Гоголь нарушал, преступал закон. Он разрушал иллюзии публики насчет него самого. Она уже подняла его, возвысила, позволила критиковать себя — он вдруг сходил с пьедестала и обращал критику на себя. Он выставлял себя в смешном виде. Этот фарс раздражал более всего. Публика не уважает свергнутых кумиров, вдвойне она не понимает тех, кто сам свергает себя. Это добровольное — без всякой необходимости и понуждения извне — подставление себя под удары вызывало недоумение. Бывший повелитель умов, грозный судия пороков вдруг обращался в нищего на паперти, протягивающего руку. Последнее вызывало уже не недоумение, а презрение. Как тут было не растеряться, не рассердиться, не усомниться в искренности книги и ее автора?