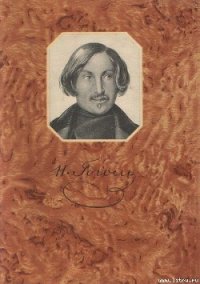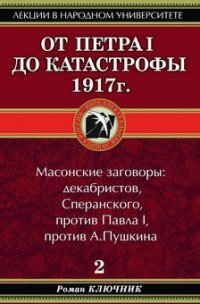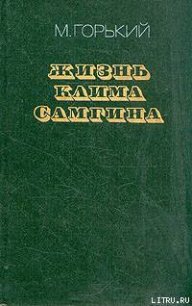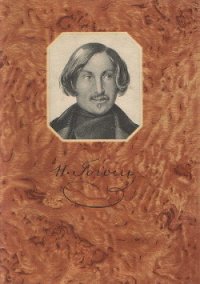Гоголь - Золотусский Игорь Петрович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Итак, и для ближайшего друга он остается закрыт.
А она «привыкла иметь при себе Николая Васильевича», она деспотически желает, чтоб в «породнении» он весь принадлежал ей. «Душу бы не запирала, как вы, в три замка... Сознайтесь, что все ваши недоразумения произошли от вашей молчаливой гордости...» — пишет она ему. А он на это молчит. И лишь в минуту отчаяния, болезни, когда ему кажется, что он вновь стоит у двери гроба, прорываются в нем и боль и нежность. Это удивительный момент, самый чистый и искренний момент в их отношениях. Тут уж не умствования, не софизмы, не цитаты из священных книг и литературы, а неподдельная скорбь по скорби другого слышится в письмах Смирновой, истинно чувствующей его как брата. «Душа моя хотела бы перелететь к вам, быть с вами неразлучно, прострадать около вашей и свои и ваши болезни...» Случилось это в начале лета 1845 года, когда вновь настигло Гоголя т о, когда опять перехватил его на пути недуг телесный, и настал новый кризис — еще более страшный, чем первый.
6
Что же произошло? Пауза подвела. Отсутствие дела сказалось. Три года он пережидал, писал и не писал: затягивался «антракт». Как ни благодатны занятия чтением, как ни плодоносен запас опытов и наблюдений над собой и над людьми, писатель должен писать. Пусть по сырым следам, но переносить свое душевное состояние и то, что наработала голова, на бумагу. Недаром Гоголь говорил: для меня не писать значит не жить. Приневоливание себя сказалось и на писании. Хотелось писать одну душевную книгу, а писалась другая — точнее, он заставлял себя, не думая о первой, писать вторую. И лишь в письмах находил он спасение от этого разрыва. Письма как бы отводили часть его напряжения, изливали его на других, и в ответах на них он ловил успокоение в том, что работает, что делает дело.
Но поэма стояла. То есть она писалась, но вяло, под нажимом, под строгим надзором автора, который и не хотел, а писал. До конца второй части было далеко, отъезд в Иерусалим откладывался (дал себе слово, пока не окончит второй том, не ехать), все это вызывало ощущение какого-то насилия над собой, ощущение вериг, которые он, не желая, надел на себя. Признаваясь себе в минуты полной искренности, что он поспешил со своим новым верованием, что слишком раструбил о нем всему свету и себе, он не мог найти выхода.
Вот отчего брала тоска, где сидела заноза, язвящая душу, а вовсе не природная слабость и угасание сил, как он пытался объяснить Языкову.
«Еду, а куда — и сам не знаю», — признается он Языкову и едет в Париж. Но и здесь живет «совершенным монастырем». Здоровье «слабеет и не хватает сил для занятий». Он уже подумывает, не изменить ли обету и не махнуть ли в Иерусалим и поездкой этой подкрепить дух и силы. Начинаются колебания — худший вид внутреннего состояния для таких натур, как он. От колебаний этих бежит он из Парижа во Франкфурт. Но и тут «занятия не идут никакие». «Я дрожу весь, чувствую холод беспрерывный и не могу ничем согреться. Не говорю уже о том, что исхудал весь, как щепка, чувствую истощение сил и опасаюсь очень, чтобы мне не умереть прежде путешествия в обетованную землю». Он на глазах начинал таять, худеть, ребра выступали наружу, и мысль о конце приходила, как званый гость. Все его развитие, все его идеи о том, что недомоганье нужно нам для испытания духа, отбрасывались этим страданьем телесного, страхом телесного, над которым дух не имел власти.
А вот и объяснение болезни: «Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно. И много, много раз тоска и даже чуть-чуть не отчаяние овладевали мною от этой причины... не готов я был тогда для таких произведений, к каким стремилась душа моя... Нельзя изглашать святыни, не освятивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу...» И притом обязательства были взяты высокие. Обязательства не только перед собою и перед богом, но и перед людьми, перед Россией, которой он публично обещал нечто необыкновенное и прекрасное. Надо было обязательства выполнять. «Стыдно и лицо показать», — пишет он Смирновой о своем возможном приезде в Россию с пустыми руками. «Приехать в Россию мне хочется таким образом, чтобы уже не уезжать из России». И опять обет, опять запрет на естественное желание видеть родину, найти успокоение среди близких (хоть дома, в Васильевне, — все лучше, чем в неметчине), запрет на право рассеяться, забыть о своих тяжких обязанностях и обязательствах.
А что стоит — взял билет, сел на пароход и поехал! Две недели — и ты дома. Пусть не совсем дома, но в Петербурге, а оттуда на почтовых до Полтавы еще неделю. И никто тебя не найдет, мать расспрашивать не станет, да и власть над маменькой велика: не захочет сын — не спросит, не подойдет даже, лишь бы жил рядом, выходил к столу, улыбнулся в день разочек. Нет, только тогда ступлю я на родную землю, пишет он Смирновой, когда буду знать, что всем сумею помочь, когда всем буду родной и мне все будут родные. «Теперь же, покаместь, и мне все чужие, и я всем чужой».
В такую-то минуту сознания, что все им за эти три года написанное «дурно» и недостойно его нового верования, и сжигает он вторую часть поэмы. Всю ли, не всю ли — мы не знаем. Лишь крайняя степень отчаяния могла заставить его это сделать. В который раз устраивал он это аутодафе написанному — сжигал без жалости, без возврата, не оставляя ни себе, ни другим хоть какого-нибудь клочка. То карающий огонь максимализма испепелял ни в чем не повинную бумагу. Раз написанное дурно, рассуждал он, то и я дурен, а если я дурен, то и написанное дурно: из этого круга не было выхода. «Говоришь беспрерывно, — признавался он Языкову, — и при всем том не в силах быть покойным, не в силах, сложа руки, опустить на них голову, как ребенок, приготовляющийся ко сну. Еще бы было возможно это, если б не соединялось с недугами это глупейшее нервическое беспокойство, против которого если понатужишься воздвигнуть дух, но самая эта натуга воздвигнуться производит еще сильнейшее колебание...»
«Силы мои гаснут», «силы исчерпаны» — болезненное состояние нарастает, и вера в спасенье ослабевает.