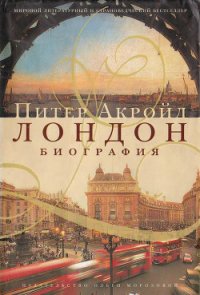Три жизни Алексея Рыкова. Беллетризованная биография - Замостьянов Арсений Александрович (читать хорошую книгу полностью txt, fb2) 📗


Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по делу Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова с приложением постановления Пленума от 27 февраля 1937 года. 3 марта 1937 года [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 294. Л. 48–49]
Трудно отказать «железному наркому» в цепкости, как и в умении эффектно сервировать минимум полученных показаний против Рыкова. Ведь, по существу, активную деятельность правого троцкистско-зиновьевского центра, ставившего задачу реставрацию капитализма в СССР, ему вскрыть не удалось. Весь компромат Рыкова в бытность его председателем Совнаркома легко объяснить логикой борьбы за власть и влияние. А немногие (и не слишком яркие: больших «злодейств» из разнообразных показаний выудить не удалось) эпизоды, относящиеся к 1930-м, логичнее всего объяснить обидами старого большевика. Он ворчал, более активные товарищи упрекали его в бездействии. Он критиковал их программу. Образ одного из лидеров боевой оппозиции из Рыкова не получался. Пришлось подменять факты эмоциями, произвольно связывать Рыкова с другими, более яростными, оппозиционерами. А недостаток улик объясняли иезуитской осторожностью опытного политика. Что оставалось? Только продемонстрировать ЦК и суду признания самого обвиняемого, которых в конце концов удалось добиться. Но для пленума и такое выступление Ежова стало сенсацией. Члены ЦК, в большинстве, были готовы к самым жестким мерам в отношении Рыкова и Бухарина.
Конечно, дали выступить на пленуме и Рыкову — человеку без должности, но все еще «старому большевику», который имел право на «последнее слово». На этот раз он так и не сумел собрать нервы в кулак. Печать тяжкого психологического состояния лежит и на его заключительной речи на Пленуме ЦК, произнесенной 26 февраля 1937 года, — речи покаянной и самозащитной.
Он начал драматично. Обычное рыковское заикание воспринималось как дурной театральный эффект, призванный вызывать жалость: «Это собрание будет последним, последним партийным собранием в моей жизни. Из того, что я слушал здесь, мне это совершенно и абсолютно ясно. Но так как я человеком партии был более 36 лет, то для меня это имеет значение собственно всей жизни. Против меня здесь выдвинуты широчайшие обвинения, т. е. такие обвинения в преступлениях, больше которых вообще не может быть. И все эти обвинения считаются доказанными фактами. Многие ораторы цитировали показания против меня». Это был ошибочный ход, слишком уязвимый, но на иной Рыков, видимо, уже не был способен. Он говорил сбивчиво, часто переходил на личную ноту, чего раньше за Алексеем Ивановичем не водилось: «Я вот иногда шепчу, что не будет ли как-то на душе легче, если я возьму и скажу то, что я не делал… Конец один, все равно. А соблазн — может быть, мучения меньше будет — ведь очень большой, очень большой. И тут, когда я стою перед этим целым рядом обвинений, ведь нужна огромная воля в таких условиях, исключительно огромная воля, чтобы не соврать» [193].
Его перебивали, снова и снова упрекали — он уже привык к такому приему. Рыкову напоминали о единственном «преступлении», в котором он признался, — в чтении вместе с другими «правыми» рютинской листовки: «Ворошилов: Если она [листовка], на твоё счастье, попалась, ты должен был забрать её в карман и тащить в Центральный Комитет…
Любченко: На пленуме Центрального Комитета почему не сказал, что у Томского её уже читали?
Хрущёв: У нас кандидаты партии, если попадётся антипартийный документ, они несут в ячейку, а вы — кандидат в члены ЦК».
Отвечая на эти реплики, Рыков заявил, что допустил «совершенно явную ошибку». Не удовлетворившись этим, Молотов напомнил Рыкову еще один факт его «двурушничества»: при обсуждении в 1932 году на Пленуме ЦК вопроса о «рютинской платформе», нарком Рыков заявил, что если бы узнал, что у кого-то имеется эта платформа, то потащил бы такого человека в ГПУ. В ответ на это Рыков заявил: «Тут я виноват и признаю целиком свою вину… За то, что я сделал, меня нужно карать, но нельзя карать за то, чего я не сделал… одно дело, если меня покарают за то, что я не притащил куда нужно Томского и других, совершенно другое, когда утверждают, что я с этой программой солидаризировался, что эта программа была моя». Шкирятов в ответ бросил еще одну суровую реплику: «Раз об этом не сообщил, значит, был участником» [194]. Эту логику в то время разделяло большинство ЦК.
При этом Рыков снова и снова боязливо повторял, что «рютинская платформа» ему чужда, что он не имеет к ней отношения. Ему напомнили о страшных показаниях Шмидта, что в Болшеве, у Томского, «эта программа была одобрена». Просто одобрена — без указаний на личное мнение Рыкова.
Алексей Иванович сбивался, извинялся, вспоминал о том, как боролся с троцкистами, как однажды некоему Трофимову втолковывал правоту сталинской политики. Говорил, что никогда не доверял Зиновьеву, а Пятакова «считал мерзавцем».
Сталин в ответ напомнил о его «блоке с Зиновьевым и Каменевым на другой день после взятия власти против Ленина». Этот хорошо известный факт коллективной отставки нескольких деятелей партии в 1917 году после отказа большинства ЦК от формирования коалиционного правительства совместно с меньшевиками и эсерами. Рыков подтвердил: «Это было». Тогда Сталин бросил новое обвинение — в том, что Рыков вместе с Зиновьевым и Каменевым выступал и против Октябрьского вооруженного восстания. Тут Рыков твердо возразил: «Этого не было» [195].
В финале экзекуции бывший председатель Совнаркома в отчаянии произнес: «Я теперь конченый человек, это мне совершенно бесспорно, но зачем же так зря издеваться?.. Это дикая вещь». Свою речь он закончил все тем же покаянным тоном: «Я опять повторяю, что признаться в том, чего я не делал, сделать из себя… подлеца, каким я изображаюсь здесь, этого я никогда не сделаю… Я ни в каких блоках не состоял, ни в каком центре правых не был, никаким вредительством, шпионажем, диверсиями, террором, гадостями не занимался. И я это буду утверждать, пока живу» [196]. С такими словами не побеждают и не выходят сухими из воды, это жалобы обреченного. Он прощался с товарищами, прощался с большой политикой, в которую окунулся еще гимназистом, — конечно, даже в общих чертах не представляя, что из этого выйдет. А на жалость рассчитывать не приходилось — и, если бы Рыков не был взвинчен бессонницами и нервными припадками, он бы сам это прекрасно понял. Весь его опыт подсказал бы, что пословица «Москва слезам не верит» к партийной жизни подходит как нельзя лучше. Большие батальоны были не на его стороне — и защиты не получилось, вышел, в глазах большинства, «жалкий лепет оправданья». В глазах пленума Рыков и Бухарин, несомненно, выглядели обманщиками. Они несколько раз меняли позиции, на шажок отступали — и очень напоминали двурушников, которые покрывают некий великий заговор.
На следующий день, 27 февраля, пленум завершил дело Бухарина и Рыкова, установив, что они знали о деятельности троцкистского шпионского центра, но скрывали это от партии — а значит, содействовали вредителям. По этому делу сформировали комиссию, которую возглавил Микоян — нарком, хорошо лично знавший и Рыкова, и Бухарина. Он назвал Рыкова сильным конспиратором, подчеркнул, что бороться с ним непросто, и накинулся на бывшего премьера бойко, углубляясь в историю: «Наконец, ошибка Рыкова не случайна, что он борется с партией. Что это, случайно? Нет, не случайно, он не только в вопросе коллективизации свихнулся. Он и раньше так же работал и в 28-м, и в 30-м году, разве у него только эта связь с террористами? Нет. И при Ленине, и против Ленина он боролся, он боролся с партией и до Октябрьской революции, и после Октябрьской революции. Он по коренным вопросам революции боролся против нее. Наконец, когда власть захватили, когда власть была уже в наших руках, когда нельзя было обратно восстание отдавать другим, он стал по-своему требовать, он снова стал срывать нашу работу, и требовал, чтобы правительство организовало „однородное социалистическое правительство“ вместе с предателями меньшевиками. Правда, это правительство не было бы однородным, так как там большевики были» [197]. Напрашивался вопрос — как же такой двуличный, лживый человек надолго стал главой Совнаркома, не раз избирался в ЦК и в Политбюро? Но никто его не задал — в этом направлении позволялись только фигуры умолчания. Словом, комиссия высказалась за исключение провинившихся из партии. Несколько членов ЦК, во главе с Ежовым, высказались за предание их военному трибуналу с применением смертной казни. Другие — за предание суду без применения расстрела. Сталин предложил компромиссный вариант — просто передать дело в НКВД. Ему был необходим новый большой процесс, безукоризненный. И — видимо, требовалось еще выиграть несколько месяцев на его основательную подготовку.