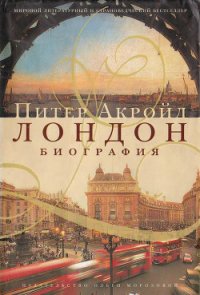Три жизни Алексея Рыкова. Беллетризованная биография - Замостьянов Арсений Александрович (читать хорошую книгу полностью txt, fb2) 📗
Показания против Рыкова дала и его верная многолетняя помощница Екатерина Артёменко, которую близкие наркома считали «членом семьи». Нет, Рыков, тертый политик, с юных лет умевший общаться с полицией, был достаточно толстокожим человеком. Ранимый не устоял бы в Совнаркоме до 1936 года. Но признания Артёменко порядком надломили его. Она сообщала, что Рыков велел ей и ее супругу выслеживать автомобиль Сталина, то есть — готовить покушение на вождя. Это выглядело абсурдным: в то время маршруты Сталина были известны слишком многим в ЦК, почти всем кремлевским жителям… Катерине перевалило за пятьдесят, и она, ушлая держательница салона, должна была понимать, что даже сотрудничество со следствием не гарантирует ей свободу и жизнь, но — боролась за жизнь. Между тем именно Артёменко относилась к тем сотрудникам Рыкова, которые в конце 1920-х видели в нем лидера и во многом формировали круг общения правого оппозиционера. И Алексей Иванович не мог не вспомнить, как часто Екатерина — гостеприимная хозяйка и обаятельная женщина — клялась ему в преданности. В середине двадцатых она ощущала себя одной из королев Москвы. Проницателен Беранже: «Вельможи случая искали // Попасть в число ее гостей; // Талант и ум в ней уважали. // Подайте ж милостыню ей!»
Но самой боевой, пожалуй, вышла очная ставка с Сергеем Радиным. Когда-то Алексей Иванович симпатизировал этому исполнительному работнику, «красному профессору», грамотному молодому экономисту, который, помимо прочих достоинств, умел подольститься к начальству. К тонкому, продуманному подхалимажу (если он действительно тонок) не остаются безучастными даже опытные руководители. И вот именно Радин стал «козырем» обвинения в противостоянии с Рыковым. Алексей Иванович пошел в контратаку. Не без раздражения он дал показания, в которых рассказал, как этот человек заявился к нему в 1932 году с упреками, сетуя, что Алексей Иванович отказался от политической борьбы, что он ведет себя пассивно, бездействует. Радин при этом выглядел «эмиссаром некой организации». Рыков попытался именно его представить если не главой заговора, то возможным представителем троцкистов, старавшимся перетянуть на свою сторону сомневающихся. Это выглядело не слишком логично — как, впрочем, и цветастые сюжеты, которые живописал Радин.
Так, мягко говоря, наивно выглядят показания Радина, что Рыков в частных разговорах «рассказывал о Сталине в озлобленных тонах». Отрицать этого Алексей Иванович не стал. Но как легко обвинить в чем-то подобном любого человека — без свидетелей и магнитофонных записей, которых тогда еще и быть не могло. Предательство секретарей, людей, которых Рыков не считал выдающимися личностями, производило гнетущее, тошнотворное впечатление. Руки опускались, Алексей Иванович терял силы, необходимые для борьбы. И все-таки у Рыкова оставалась надежда — обратить внимание следствия на нестыковки в показаниях его бывших сотрудников. И — даже по их сведениям — получалось, что Рыков никогда не был инициатором борьбы против партийной власти. К пленуму он подошел в разбитом состоянии.

Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б) Троцкий, Бухарин, Рыков. Рисунок Межлаука. Приписка Сталина: «Капитализм». 1937 год [РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д 170. Л.77]
В праздничный день, 23 февраля 1937 года, открылся февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б), на котором Наркомат внутренних дел должен был фундаментально отчитаться о своей работе по делу правой оппозиции.
На этот раз у Рыкова не получилось быстро и до конца победить депрессию, которая лишала его волевой цельности. Наталья Рыкова вспоминала, что в первые дни пленума ее отец часто повторял: «Они меня хотят посадить в каталажку». А потом несколько дней не вставал с дивана и почти не разговаривал с родными, даже не курил (!) и не ел. Иногда изображал возвращение оптимизма, твердил родным, что ему непременно найдут работу, ведь он, как-никак, кандидат в члены ЦК… Но потом — очень скоро — снова его обуревали темные мысли. Еще недавно Рыков осуждал Томского за неверный ход, за «глупое» самоубийство, а теперь и сам подумывал свести счеты с жизнью. От этого шага его удержали жена и дочь. Много лет спустя Наталья Рыкова на прямой вопрос журналиста Константина Смирнова: «Почему он не застрелился?» ответила так: «Не успел. Один револьвер лежал под подушкой, другой — в письменном столе. С сестрой, с Галей, он говорил: „Галька, как ты думаешь, если прыгнуть в окно, то разобьешься?“ Эти разговоры были, но не со мной. Оружие было — его и матери, мать тоже владела прекрасно, не хуже его, между прочим. Второй револьвер исчез» [185].

Наталья Рыкова. 1934–1936 годы [РГАКФД]
От разбитой репутации самоубийство его бы не спасло, а между тем такой финал нехарактерен для Рыкова, для его нрава и политического стиля. Но когда он убедился в том, что все закончилось судом и взаимными обвинениями оппозиционеров, — бросил Бухарину в мимолетном разговоре: «Правильнее всех поступил Томский». Тем временем в газетах уже публиковались письма трудовых коллективов с требованиями суда и даже расправы над «право-троцкистскими убийцами». «Мы просим наше правительство, органы НКВД полностью расследовать преступную деятельность правых — Бухарина, Рыкова и других. Советская земля должна быть очищена от остатков троцкистско-зиновьевской фашистской агентуры. В этой работе каждый из нас, каждый честный труженик Советского Союза примет самое энергичное участие» [186] — это строки из резолюции митинга рабочих ночной смены Московского тормозного завода им. Л. М. Кагановича. Одной из многих подобных — во время «артподготовки» к решающему пленуму.
…Истекли месяцы, которые ЦК дал «правым» и следователям на поиски доказательств. И Николай Ежов, когда председательствовавший Молотов дал ему слово, говорил долго, то и дело прибегая к документам. На этот раз он чувствовал себя куда увереннее, чем три месяца назад, на декабрьском пленуме, когда казалось, что Сталин одергивает своего наркома. К февралю Ежов убедился в том, что его «подопечные» психологически почти раздавлены, а свою доказательную базу считал неотразимой. Он определенно ощущал прилив вдохновения, даже опьянения, и безоглядно преувеличивал, впадая почти в транс самоубеждения.
Обвинения Бухарина давались ему легко — общительный и говорливый Николай Иванович оставил слишком много разных компрометировавших его следов. Построения, направленные против Рыкова, — по мнению того же Ежова — потребовали большего напряжения. Первый чекист страны считал Алексея Ивановича хитрым и изворотливым конспиратором. И все-таки «железный нарком» считал, что он «расколол» этот орешек — о чем и сообщил членам ЦК: «Рыкову была дана очная ставка с людьми, с которыми он сам пожелал иметь очную ставку. Ближайшие работники, в прошлом лично с ним связанные, — Нестеров, Радин, Котов, Шмидт Василий, — все они подтвердили предварительные показания на очной ставке, причем несмотря на строжайшее предупреждение о том, что ежели они будут оговаривать и себя и Рыкова, то будут наказаны, они тем не менее свои предварительные показания подтвердили. Больше того, в этих очных ставках дали целый ряд новых фактов, напоминая Рыкову об отдельных разговорах, об отдельных директивах, которые от него получали, и об отдельных фактах, которые не смог даже отрицать Рыков» [187].
Здесь Ежов не преувеличивал. На очных ставках действительно следственные показания подтверждались, а Рыков выглядел подавленным и даже давал волю нервам. В дальнейших ежовских построениях мы видим больше неаккуратных, рискованных натяжек и допущений: «После поражения правых на ноябрьском Пленуме ЦК в 1929 году центр правых приходит к убеждению, что открытая атака против партии безнадежна и обречена на провал. Продолжая стоять на своих правооппортунистических позициях, центр правых, в целях сохранения своих кадров от окончательного разгрома, встал на путь двурушнической капитуляции. В надежде, что удастся в ближайшее время начать новую атаку против партии, центр обсуждает целый план, всю тактику двурушничества. Здесь учитываются ошибки троцкистов, ошибки зиновьевцев и разрабатывается буквально до деталей план двурушнической подачи заявлений. План этот заключается в следующем: первое — всем причастным к организации правых членам партии, которые не известны еще партийным организациям как активно связанные с правыми, дается директива конспирировать свои связи до поры до времени и никуда не вылезать, никаких заявлений не подавать. Особая тактика вырабатывается для москвичей, в особенности для членов Центрального Комитета от московской организации» [188]. Это, конечно, сплошная риторика — и, чтобы доказать злые намерения правых, Ежову пришлось бы читать в их мыслях…