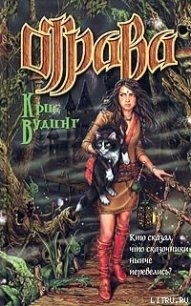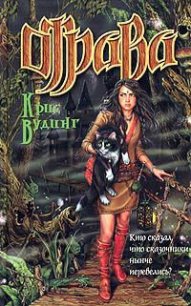Белорусские народные сказки - Автор неизвестен (чтение книг txt) 📗
Вот служат люди дохлому змею, служат прогнившим панам, отдают им последнее, а сами ходят голодные, холодные и за работой света божьего не видят. Так и живут они из века в век. Одни помирают, другие нарождаются, и нет им никакого облегчения. И до того дожили люди, до того притерпелись они, что уж и не думают о лучшем житье. Сдается им, что так и надо, что коли начать иначе жить, так будет светопреставление. «Так жили наши прадеды и деды, и нам велено блюсти их обычай»,— говорят люди и ничего не делают для лучшей жизни.
Вот родился в том краю хлопчик. Был он вовсе плохонький, худенький; каким немощным родился, таким и жить стал. Ни паны никто его не трогает потому, что такой он никудышный, что никому не нужен.
Уж он и большой вырос, а все играет с ребятами, будто маленький. И прозвали его люди Иванкой Простачком. Зимой Иван сидит себе на печи, игрушки из лучинок мастерит, а лето придет — с малыми детишками на дворе песочек пересыпает. Так прожил он лет тридцать.
Вот как-то раз сидит Иванка Простачок на земле у завалинки да с песочком забавляется. Идут трое нищих. Подошли они к хате и присели на завалинку отдохнуть. В селе — ни души: пан всех на работу выгнал. Пусто, хоть поджигай. Сидят нищие, отдыхают да набивают табаком свои трубочки. Хватились — нет огня, и просят они Иванку, чтобы он им огонька раздобыл. Побежал Иванка в хату, набрал в пригоршни угольков и приносит нищим. Те закурили трубочки, поблагодарили Иванку, да и спрашивают, что, дескать, он делает.
— Песочек пересыпаю,— отвечает Иванка,— потому что ведь работа — нам, а урожай — панам. А люди у нас глупые, сами из себя тянут жилы, работают изо всей силы, бьются, над сохою гнутся, а с нуждой никак не разминутся. Ведь паны-то все себе гребут, с мужиков три шкуры дерут, а иных и насовсем к себе берут, со свету сживают, увечат, мучают, забивают и жалости не знают.
Послушали это нищие, головами покачали да на гуслях заиграли.
Первый раз заиграли — Иванке разум дали, другой раз заиграли — в сердце жалости нагнали, третий раз заиграли — язык Иванке развязали.
Пропали тут нищие, словно их и не бывало, глядь — а Иванка Простачок уже не прежний дурачок, стал он за дело приниматься да в свет белый собираться. Смастерил он себе дудку-самогудку, да и заиграл так-то жалостно, так-то задушевно, что не только люди, а и звери с птицами стали диву даваться да вокруг него собираться. И пошел Иванка Простачок по свету ходить, на дудочке играть, людей собирать да им правду открывать. Как заиграет, так и узнают люди, что правит на свете великая кривда: одни держат кнут, другие под ним спину гнут. Одни богатству счету не знают, другие с голоду подыхают. И разнесся голос той дудки по всему свету. Стали люди к этому голосу прислушиваться да ума-разума набираться; стали думать да гадать, как за правду постоять.
Вот услыхали и во дворцах тот громкий голос, всполошилась слуги змея, стали они войско скликать да Иванку Простачка искать. Услышат голос с восхода—они скорей туда. Палаши блестят, пики, как лес, торчат, пушки гремят, а Иванки не видать.
Притаятся, будто на охоте, стоят, слушают. А уж голос с заката слышится, играет дудка-самогудка, играет — людей научает. Идет отголосок по полям, по лесам, от села до села, от края до края. Кинутся туда, коней гонят, сами бегут, саблями звенят, из пушек стреляют, а Иванки никак не поймают. Гудит дудка, играет: то засвищет, то журавлем закурлычет, то затихает тонко-тонко, ну будто паутинка, то так дробненько защебечет, что у панов аж коленки трясутся и мороз по спине подирает, будто мыши туда забрались и скребут когтями.
С той поры те слуги змея ни днем, ни ночью не знают покоя. Ждут они себе беды, словно вол — батога.
Дудка свищет, дудка играет, ее голос по свету гуляет, людей научает. Его ни словить, ни из пушек убить. Он вольно по свету гуляет, никаких тебе загородок не знает. Хоть сам без тела, а делает великое дело. Играет-играет, а час пробьет — всех поравняет.
Ой ты, дудка моя, самогудка моя!
ЖУРАВЛИНЫЙ КОШЕЛЬ
Жили себе дед с бабой. Не было у них ни детей, ни родичей, так и доживали они свой век вдвоем в хате. Кое-как перебивались с хлеба на квас.
Известно, были они очень старые, годов так по восьмидесяти, а может, и больше,— прежде-то старые люди долго жили. И вот дожили они до того, что есть стало совсем нечего.
Только, тем и держались, что дед по миру пойдёт да сухариков насбирает.
Но вот дождались они — пришла весна-красна.
Баба деда и наставляет:
— Дедка, люди вон всё сеют, посеял бы и ты хоть проса, что ли, с гарнчик-то мы бы наскребли. Хоть бы нам, беззубым, кашки мягкой отведать на старости лет или крупяной похлебки тепленькой, а то эти сухари уж поперек горла становятся.
Послушался дед бабы и посеял по весне проса. Расчистил лядце и посеял.
А посеявши, целую неделю не ходил глядеть, взошло просо или нет.
На другую неделю пошел — выросло просо чуть не по пояс.
То, видно, бог поторопил, чтобы росло оно для старых да бедных, которым есть нечего.
Раз приходит дед к своему просу и видит: стоит в просе журавль, да такой большущий!
Дед взял палку, подошел да как запустит в журавля. Тот поднялся и улетел.
Стал оглядывать дед свое просо, а оно все начисто побито, потоптано, поломано.
Тогда он вернулся домой и говорит бабе:
— Вот, бабка, дал нам бог хороший урожай, да не даст он снять его.
— Почему это не даст снять?
— Да повадился журавль в наше просо и прямо не клюет, а косит — все начисто побил, поломал.
— А ты же, дедка, прежде был охотником, так возьми ты свою кремневку, почисть ее, подкрадись, да и убей журавля. Вот и мясо нам будет!
Послушался дед бабы, достал из клети кремневку, почистил и утром пошел к своему просу.
А журавль-то прилетал перед полуднем. И пока дед подползал, пристраивался да примеривался, как ему убить журавля, глядь, а он уже там. А какой хитрый этот самый журавль, ну что твой змей: только дед подошел, а он уж и оборотился — то птицей был, а то стал паном, аж весь сияет, при всей форме и лицом румяный.
И говорит пан деду:
— Стой, дедушка, не убивай меня! — говорит.
А потом спрашивает:
— Это твое, дедушка, просо?
— Мое.
— Что ж ты хочешь за свое просо?
Испугался дед, видит: пан, как-никак, а он такой бедняк, оборванный, залатанный, закопченный. Будто из черной бани из какой!
— Что,—говорит,—я хочу? Нет у меня никого—ни детей, ни родичей, и кормить меня некому.
— Ну, дедушка, коли нет у тебя никого и некому тебя кормить, так иди ты вслед за мной зеленой тропой, шелковой травой, выйдешь на поляну, там будет мой дом. Да не иди ты к крыльцу оттуда, где солнце заходит, а иди с юга. Там увидишь Другое крыльцо, на него подымись и войди в дом. Там будет страж стоять. Он спросит у тебя, куда ты идешь, а ты скажи, мол, к Журавлевому. Он тебя и пустит. А может, я сам услышу либо в окно увижу и двери тебе отопру!..
Сказал он это, и — хлоп-хлоп! — сделались у него руки крыльями, поднялся он и полетел.
Идет дед зеленой тропой, шелковой травой, выходит на поляну и видит посреди поляны дом, да такой красивый, что ни вздумать, ни гадать, только в сказке сказать. Такого другого, может, во всем нашем царстве нету — так и сияет.
Подходит дед к тому крыльцу, которое на юг глядит, а там стража.
— Ты куда,— спрашивает,— идешь, бродяга ты эдакий? Как ты смеешь тут шляться?!
А тот, журавль-то, услыхал, отворяет одни двери, потом другие:
— А ну, иди, иди сюда!
Стража сейчас же отступила в сторону. Вот дед прошел один покой, другой покой, входит в третий.
Журавль усадил его в кресло, как вот примерно вы меня, и поставил ему угощение — продуктов, фруктов разных, вина всякого, показал перед ним весь свой стол, на котором разве что птичьего молока не было.