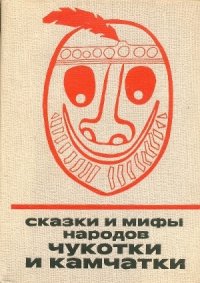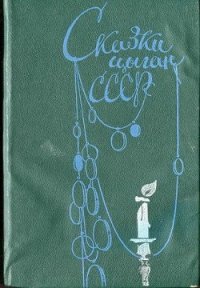Сказки и предания алтайских тувинцев - Сборник Сборник (читаем книги онлайн TXT) 📗
Синий бык: он стоит над входом ь нижний мир, там, где смыкаются земля и небо. В № 8 он также живет на севере и рога его достают до неба. Задача состоит п том, чтобы добыть его сердце и легкие как лекарство для симулирующей болезнь матери героя (предлог для того, чтобы погубить его), на деле же они оказываются ядом. В этом контексте синий бык. является также господином Синего озера (ТНС 1971, с. 45). В алтайской богатырской сказке „Алып-Манаш и Кюмюжек-аару“ (Танзаган, с. 240) синий бык служит ездовым животным семиглавого делбергеиа (дьелбегена). Его пребывание над входом в нижний мир соотносится с местом, где живет дельбеген, — под землей <ср.: Радлов. Образцы, II, с. 123). В № 13 глазному герою также принадлежит синий бык. В некоторых алтайско-тувинских сказках противником героя выступает богатырь Хёдээнинг Гёк Бёгези, имя которого иногда встречастся и в форме: Хёдээнинг Гёк Бугазы — Синий бык степи — широкой страны (например, в № 13 и 10), иногда меняясь в пределах одного текста. В одном варианте сказки № 15, рассказанной Б. Джоксумом 25 октября 1985 г., говорится о сватовстве героя к дочери Хёдээнинг Гёк Бугазы. Образ синего быка принадлежит не земному миру, а потустороннему.
В связи со скачками следует подчеркнуть один архаический элемент. О соперниках на скачках в качестве характеристики говорится, что „их груди хлопали“. Если о противниках на скачках во время первого сватовства ничего больше не сказано, то во втором случае о наездниках противника говорится прямо как о „старых бабах“, и как обращение употребляется „бабушка“, и опять подчеркивается „хлопанье грудей“. В аналогичных ситуациях иногда говорится о том, что вместе со скачущими бежит шулмусиха (как, например, в № 15, в монгольских сказках: Беннингсен, с. 91, в калмыцких: Ramstedt. с. 139), — возможно, это реликт скачущих наездниц. Укажу и на то, что в эпосе „Гесер“ встречаются войска старых демонических женщин. В. Хайссиг (см. выше) видит здесь связь с раскопками, обнаружившими захоронения сотен женщин скифо-сарматской эпохи, погибших, очевидно, в борьбе.
Длинные груди, обе заброшенные на спину (ср. мотив F 531.15.1 и F 460.1.2) или одна заброшенная за плечо, а другая положенная у кромки пепла (Рорре. Mongolische Volksdichtung, с. 106–107), у монгольских, тюркских и манчьжурских народов (монголов, манчьжуров, различных алтайско-тюркских народов, киргизов) являются как бы характерной чертой старых демонических женщин, но иногда они встречаются и у демонических существ мужского пола (у чувашей, татар; см.: Taube. Folkloristischer und sachlicher Gehalt, с. 45 и примеч. 76). В нашей сказке нельзя однозначно сказать, были ли всадники с „хлопающими грудями“ только женщинами.
Крайне интересен также мотив встречи с лисой. Там, где говорится, что эта лиса предсказывает будущее по луку и стрелам, описано, как именно она это делает: лиса „впилась зубами в нижний край колчана, вытащила одну из стрел, начала постукивать ею то с одной стороны, то с другой, и тетива лука стала издавать свистящие звуки. Постукивая стрелою, лиса при помощи лука узнавала будущее“. Известно, что многие сибирские народы представляют себе шаманский бубен как лук (ср. терминологию шаманского бубна; например, металлический поперечник называется „тетивой“; см.: Потапов. Лук и стрела, с. 72), и, по всей вероятности, это представление более древнее, чем представление о бубне как о ездовом животном шамана, и одна из функций шамана — предсказание будущего — в древнейшие времена совершалась при помощи лука и стрелы (см. также: Emsheimer. Zur Ideologic der lappischen Zaubertrommel). Наша сказка не только документирует этот интересный с точки зрения этнографии факт по отношению к алтайским тувинцам, но и является еще одним ярким доказательством этого архаического культурного элемента.
18. Почему рассказчику не следует заставлять долго просить себя
(Тоолучу джуге джыгатпас)
Записано от руки от М. Хойтювека (45 лет), 6 августа 1967 г. в Онгаде.
Нем.: Taube, 1978, с. 216, № 40; Taube, 1977, с. 22.
Ср. ВСС 516*.
Распространение: каз.: (1) Сидельников, II, с. 159 (= Казиев, с. 125); ингушек.: (2) Мальсагов, с. 159, N? 36; 4 варианта у белорусов и украинцев (по ВВС 516*).
Для понимания этой сказки важно учесть, что она основана на древних представлениях и вере в магическую силу и магическое воздействие изреченного слова.
Об устойчивости древних традиций, когда пение было не самоцелью, а магическим средством поддержания общности, когда целью его было радовать духов, свидетельствует множество твердо установленных правил, соблюдающихся еще и сегодня. Так, у тувинцев сомона Цэнгэл совместное пение должно начинаться с определенной песни, по характеру величальной; первую песню должен начинать только старейший из собравшихся; песню нельзя прерывать и т. д. (ср.: Taube, 1980, с. 134–135). Такое пение выходило за пределы культового действа и становилось событием, связывающим людей в единое целое.
Нечто подобное происходило и при исполнении сказок. Им отводилась особая роль на охотничьих стоянках. Усладить духа-хозяина охотничьей стоянки и дичи рассказыванием сказок считали первой предпосылкой удачной охоты. В нашей сказке очень важна мысль, что человек не вправе отвергать то, что дано и предназначено ему свыше (ср., например с таким охотничьим обычаем: охотник должен застрелить все, что предлагает ему Алтай, он не должен, например, пренебречь зайцем, если вслед за ним вдруг появится более крупная дичь, скажем олень, а то его покинет охотничье счастье).
В казахском варианте в отличие от тувинского с самого начала говорится об обычае в ночь свадьбы, до того как жених с невестой вернутся в родительский аил, рассказывать друг другу сказки. Можно и в этом случае предположить, что первоначально целью рассказывания сказок было не просто развлекание присутствующих, а обращение к духам, например к местным духам того отрезка пути, который предстояло одолеть жениху с невестой. Жених нарушает этот обычай. Сестра невесты подслушивает на улице трех духов, грозящих в наказание погубить юношу, после чего сказка в принципе продолжается как тувинский вариант. Три духа — хозяева сказок, две из которых точно названы — сказка о насекомых и сказка об оружии.
Интересны и славянские параллели: у восточнославянских народов есть соответствующий сюжет, не отмеченный у Аарне — Томпсона: верный слуга спасает барина от мести трех коляд (сказок). Здесь тоже три сказки мстят за то, что, рассказывая их в рождественскую ночь, барин засыпает. Можно предположить, что и тут речь идет не о рассказывании сказок вообще, в любой ситуации, а о рассказывании их при особых обстоятельствах, а именно в ночь под рождество, а стало быть, с определенной магической целью.
В ингушском варианте „Наказание тому, кто не расскажет сказки“ хозяин дома отказывается рассказывать сказки пряхам, которые пришли в его дом, чтобы оказать ему принятую в сельской общине помощь (бельхи), и ложится спать. Его сестра подслушивает разговор трех духов, стоящих в головах, сбоку и в ногах брата; из него следует, каким образом каждый из них собирается уничтожить на следующий день ее брата. (Наказание здесь мотивировано, пожалуй, социально: помощь жителей деревни не оплачивается здесь эквивалентом — рассказыванием сказок, как это принято; возможно, для восточнославянских вариантов следует принять во внимание подобный же аспект: на рождество хозяин обычно делает что-то для своих слуг, т. е. рассказывает им сказки). На следующий день сестра не покидает брата и тем самым предотвращает его смерть (она уоивает охотничью собаку, плюет в ручей, отрезает рукав новой шубы брата); ответив на вопрос о причинах такого поведения, она превращается в камень. Брат узнает во сне, что оживить ее может только кровь его сына. Жена поддерживает его в решении совершить это для спасения сестры. Вернувшись домой, они видят, что сын опять жив и здоров. Это завершение сказки — выдача тайны, окаменение и оживление при помощи крови — связывает ингушский вариант со славянскими, в то время как в алтайско-тувинском и казахском вариантах вместо спасителя, выдавшего тайну, трем духам подсунута замена („Овечка сказала…“ — мотив козла отпущения). Всем вариантам свойственно общее представление о том, что неполный рассказ или отказ от рассказывания достойны наказания, что это в конце концов недостаток почтения к духам, даровавшим умение рассказывать, и, стало быть, оскорбление. Монголам эта сказка неизвестна, и, по словам Д. Климовой (Прага), неизвестна она и западнославянским народам. Поэтому мы адресуем вас к выводам ученого А. Зеки Валиди Тогана, исследовавшего путевые записки Ибн Фадлана, который писал о наличии убедительных параллелей в культуре варягов и алтайских народов, контакты которых могли быть опосредствованы славянами. Видимо, контакты норманнов с тюрками в Восточной Европе, а возможно, и с северокавказскими народами относятся к временам куда более ранним, чем IX–X столетия (Togan, с. XXXIII).