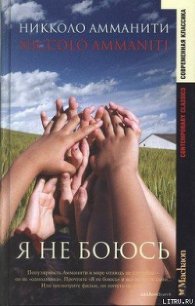Я догоню вас на небесах - Погодин Радий Петрович (читаемые книги читать .TXT) 📗
Умная была наша Афина. Бабушка ее любила. И Леандра любила, но почему-то жалела. Я ее жалость к людям чувствовал сразу же, как собака.
Самсон Уткин съехал от бабушки незадолго до окончания нами ликбеза. Обещал прийти на торжество, да уже не пришел.
В тот день все были снова нарядны, снова как бы после бани. Леандр в пиджаке. Елена Николаевна в жакете в полоску и длинном белом шарфе. Одевалась она красиво.
Всех поздравили с окончанием курсов, всем выдали документ и памятный подарок. Отличникам, в их числе моей бабушке, дали отрез материи: женщинам - ситец на платье, мужчинам - сатин на рубаху. Мне ничего не выдали. Но!..
Афина подозвала меня к доске, объяснила, что хоть я на корабле ликбеза заяц, но тем не менее успехи у меня налицо и я тоже могу гордиться. И поскольку нет фондов мне на подарок от ликбеза, она согласилась торжественно, при всем честном народе, преподнести мне подарок от моей бабушки Екатерины Петровны, так как нельзя, чтобы в такой день, радостный для всех, я был угрюм. Она вынула из своей сумки пакет, развернула папиросную бумагу и вручила мне коробку цветных карандашей из "Торгсина", купленных на сдачу от той серебряной ложки. От себя она дала мне большую конфету с турком на фантике.
Все ликбезники подумали обо мне, все дали мне кто конфету, кто пряник.
Писатель Пе, когда я рассказывал ему эту историю, зловредно шевелил своими бледными пальцами, считая в уме, что же это за ложка была такая, что на нее столько всего купили. А ложка была нормальная. И цены, я полагаю, тоже были нормальные. Подсчитаем - возьмем хотя бы по нынешним ценам. Поскольку в "Торгсине" платили благородным металлом, цены там высокие не были. Тетрадка, хоть и голландская, - 20 копеек. Крупа гречневая, пакет - 50 копеек. Двести граммов топленого масла - 76 копеек. Круг чесночной колбасы по рубль пятьдесят за килограмм - 500 граммов - 75 копеек. Коробка цветных карандашей - один рубль. Итого: 3 рубля 21 копейка. Что же ты, несчастный Писатель Пе, думаешь, что серебряная ложка моей бабушки не стоила этих денег? Если даже брать по нынешним ценам, по 120 - 130 рублей за ложку.
Вечером Афина пришла к нам, будто вымокшая под осенним дождем. Кроме нее мы ждали Самсона с шоколадными конфетами. Афина улыбнулась нам как-то жалко. И глаза ее, и лицо ее были в обмороке.
Бабушка вязала носки из простой шерсти.
- Сейчас, - сказала она. - Вот Самсон явится, чаю попьем с конфетами, ишь басурману сколько конфет надарили. - Басурман - это я. Афина не шевельнулась. - Никак ты ребенка ждешь? - спросила бабушка.
- Жду, - прошептала Афина. - Самсон покончил с собой...
Перед энциклопедией бабушка робела, а перед смертью нет. Она посмотрела на Афину поверх очков долгим странным взглядом и бросила клубок шерсти ей под ноги. Посидели. Повздыхали. И вдруг бабушка этак обыденно говорит:
- Елена Николаевна, глянь-ка, у ног-то у твоих мышь вертится.
Афина глянула под ноги, взвизгнула и, подпрыгнув, загородилась стулом. Потом вскрикнула, схватилась за бок и села на пол.
- Теперь все, - сказала бабушка. - Теперь не бойся. Идем в ванную. Кончен бал.
Кусок дуранды наполнил меня запахом детства. Собственно говоря, пахуче лишь только детство, вся остальная жизнь запахами не богата.
Я грыз твердый жмых, соскабливал зубами с его неровных боков микрон за микроном сытный отупляющий запах. А когда уставал грызть и отдыхал на спине лежа, вспоминал бабушку. Запах льняного масла у меня связывался только с ней. Цвет льняного масла - с избой, где я родился и рос до двух лет.
Стояла она наверху холма-тягуна, прямо посреди ржи. И двенадцать яблонь, все, как одна, антоновки, все мне ровесницы, тоже стояли во ржи.
В начале войны я по причине пренебрежения мной как воинской силой для быстрого разгрома псов-рыцарей поехал в деревню. Был я в деревне своей в сознательном возрасте дважды.
В этот раз мой дядюшка со стороны отца, дядя Степа, сказал мне:
- Не знаю, как дела сложатся, не хотел бы ты посмотреть свою избу?
Эта мысль мне в голову не приходила - я был весь такой городской, такой многоэтажный.
Стояла изба на краю деревни, опаханная со всех четырех сторон, поскольку приусадебная земля тоже была колхозная, а хозяйственные постройки, хлев да сарай, дядя Степан разобрал для каких-то колхозных нужд, был он истый колхозник. А я, если вдуматься, избы своей вроде стеснялся.
- А ты зайди. Ты в ней родился, - говорил дядя Степан. - Она светлая.
К избе сквозь рожь вела тропка к крыльцу. Дядя Степан открыл висячий замок. Дверь заскрипела - в деревнях все двери скрипят.
Пустые сени - чистые. Тесовая тяжелая дверь в горницы. Отворили ее, даже как бы смущаясь, будто там нас давно ждут. Изба была медовой. Нет, не медовой - цвета текущего с ложки льняного масла. Печка была белая-белая.
- Я специально окна не заколачиваю, - сказал дядя Степан. - Приду, постою тут - как умоюсь. Это я вашу избу рубил. Не закоптилась от жизни, не замаралась. Временем позолотилась - солнцем.
Я в избу, внутрь, не пошел, постоял на пороге - что-то сдавило мне грудь. Наверное, понял, что я деревенский - от этого дерева ветка. И весь город Ленинград от этого дерева - от новгородской земли. И теперь, когда я вспоминаю ее, свою избу, стоящую поперед всей деревни во ржи, и вокруг нее двенадцать яблонь - все мои ровесницы, так сладко и так шипуче, прямо антоновка на вкус, разливается что-то в груди моей. После войны вернувшийся с фронта отец избу продал, ее увезли на станцию Кафтино. Дядя Степан с войны не пришел. Теперь нет у меня избы - есть только память. И дяди нет деревенского. Только его слова: "Временем позолотилась".
А тогда, в блокаду, изба еще была. Я о ней думал. Я скоблил зубами дуранду и все вспоминал: и маслобойню, и мельницу. Но сильнее всего бабушку, цедящую в свой овсяный кисель льняное масло, которое она покупала на рынке.
Я масло иначе ел. Наливал его в блюдце, сыпал в него горку соли и макал хлебом. Для этой еды следовало приготовиться: закатать рукава повыше да подложить ветхое полотенце под локоть или чистую тряпку. Масло текучее, по руке быстро к локтю бежит. И с подбородка капает. Бабушка, когда вместе со мной макала, тоже рукава закатывала.
Запах дуранды был таким сильным, что я не задремывал, нет, я просто, лежа, падал в обморок. Мне хотелось стать маленьким, мне хотелось макать хлеб в масло, мне хотелось, чтобы я снова спал раздетым...
Рост императора Наполеона равнялся одному метру пятидесяти сантиметрам. По русской мерке - с каблуками вместе - два аршина да два вершка. Мой рост был метр десять, бабушкин - метр семьдесят. Мне до Наполеона дорастать было ближе, чем до бабушки. Бабушка пометила рост императора карандашом на косяке двери, и я пустился расти. Даже ночью подбегал измеряться.
Произошло мое пристрастие к Наполеону Бонапарту из библиотеки Смольного и из бабушкиного табу к сыновьим вещам.
Читать нам нужно было, и как можно больше. За дверью в дядюшкином кабинете шкафы, набитые книгами, - читай. Нет, бабушка отправилась, прихватив и меня, в Смольный, в библиотеку. Жили мы рядом, в доме номер пять по Смольному переулку, а библиотека в Штабе Революции была открыта для всех трудящихся.
Бабушка отдала библиотекарше паспорт, узнала ее имя-отчество для вежливого обращения и попросила ее выбрать книгу про жизнь.
Библиотекарша дала бабушке книгу под названием "Угрюм-река". Название нам понравилось. И мы, очень довольные и нетерпеливые, пошли домой. Дома, попив чаю, сели читать.
Читали мы вслух - про себя не умели. Читали долго. Уставали. Но, отдышавшись и еще попив чаю, пускались по пути трудному, останавливаясь, возвращаясь и удивляясь каждый своему.
Я не накапливал книг, но они сами накапливались. Однажды я почти раздал все книги. Частично в библиотеки, частично любителям. Частично их у меня зачитали, частично их у меня украли. Но осталось все же довольно много всяких. Но "Угрюм-реки" у меня никогда не было. После бабушки я ее не читал. Живет во мне с той поры ощущение заката над лесной землей, где корявые люди старого режима душат друг друга и швыряют в ресторане золотой песок. На вершине кедра в деревянной колоде лежит мертвая, но живая бурятская, а может, тунгусская колдунья - красавица, которая хочет высосать кровь из красавца Прохора, как паучиха из мотылька. А чеченец с черными и в то же время огненными глазами, Ибрагимка, кричит гортанно: "Стой! Црулна! Стрыжом, брейм. Пэрвы зорт!" - и грозится кого-то зарезать. А Анфиса идет нагая по снегу из бани - красавица в лунном свете. Ее длинные распущенные волосы прикрывают ей плечи и белую грудь. Прошка хочет выскочить из окна ей навстречу, чтобы целоваться. Но Ибрагимка убивает из двустволки их обоих и уходит в глухую тайгу.