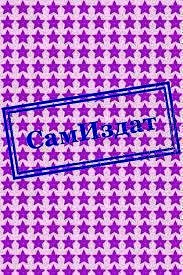Из старых записных книжек (1924-1947) - Пантелеев Леонид (электронная книга .txt) 📗
- Если и войдут, через полгода их погонят.
Как всегда мы с Д.И. много шутим. Помогает этому разливное самтрестовское вино.
Дня через два, рано утром, дворничиха Маша приносит мне повестку. Как и всякая другая повестка, она слегка пугает, настораживает. Откуда? Что? По какому делу? Но дело как будто не такое страшное. Паспортный отдел Городского управления милиции предлагает мне срочно явиться с паспортом на площадь Урицкого, дом такой-то, комната такая-то.
Неприятно в этом тексте только слово "срочно".
А там слышу другое:
- Обжалованию не подлежит.
И все-таки - обжаловал.
...Вспомнился почему-то 1933 год. Как на площадке третьего этажа Дома книги остановил меня М.Л.Слонимский:
- Читали?
- Что?
- Вчера в вечорке была тассовская телеграмма из Берлина. Фашисты жгут на улицах книги советских авторов. В том числе названы были и ваши.
Да, кроме гнева и возмущения я испытал тогда и что-то вроде гордости. Если жгут, значит, мои книги представляют какую-то опасность для них. Значит, эта коричневая нечисть их боится. И вот почему-то уже десятый месяц живу с перечеркнутой крест-накрест пропиской.
* * *
6-го мая 1942 года. Каменный остров.
Мама оживает. Ходит. Вчера застал ее у входа в женскую умывалку. Смотрится в круглое зеркальце, припудривает нос.
Трогательно? А я почему-то рассердился. Оскорбился. От глупости. От вымотанных нервов.
* * *
Нас витаминизируют. Поставили в палатах графины с зеленым, как ликер, хвойным настоем. Вкус, надо сказать, довольно противный. Гораздо приятнее крапива. Охочусь за ней. Каждое утро приношу маме бутерброды: кусочек черного хлеба, на нем мелко настриженная, как рубили когда-то укроп, молодая крапива.
Охочусь это я точно сказал. По Острову с утра до вечера ползают на четвереньках и местные жители, и тысячи питерцев, пришедших или приехавших сюда из города. Собирают крапиву, подорожник, любую траву, которая годится в пищу.
* * *
Остров Каменный - люди железные.
Это я написал на подаренной книжке.
Громко? Пожалуй.
Но так же громко можно и стоит сказать и о всем Ленинграде, о всех жителях его.
* * *
Но - нет! Никакие не железные. В том-то и дело, что не железные. Обыкновенные люди, умеющие страдать, плакать, любящие тепло, уют, сытость...
Что-то все-таки подпирает дух.
* * *
Если дух не подпирал, люди умирали. В. пришел ко мне, только что выбившись из окружения под Пушкином. Ни в ополчении, ни позже он по-настоящему не голодал. В Союзе писателей его встретили как героя, кормили, поили, ко мне он пришел с буханкой хлеба под мышкой. (Между прочим, с нею и ушел.) А я был еще без карточек. И все-таки ни одной минуты я не думал о смерти, о гибели, о поражении. Он же, мрачный человек, был темнее и мрачнее, чем обычно.
- Все передохнем. От города камня не останется. Через три, четыре дня немцы будут вот здесь, на этой улице.
Немцы и сейчас, в начале мая, сидят очень близко - в Павловске, Пушкине, Лигове, но на этой улице их нет. А В. через две или три недели умер. И не где-нибудь, а в стационаре Союза писателей, где за ним ухаживали и где есть ему давали, конечно же, куда больше, чем едим мы.
* * *
Много думаю эти дни о романе "Катя и Ваня". Надо записывать. Хотя бы сюда, в этот блокнот. Но прежде всего надо записать, вспомнить в подробностях - ту беду, или грех, или напасть, или епиходовские двадцать два несчастья, которые обрушились на меня прошлой осенью.
* * *
На другой день пришел Женя Шварц. Убитый. Не смотрит в глаза. Только что был у К. в Союзе писателей. Та выслушала его и "с железной твердостью" отказалась хлопотать.
Когда Женя ушел, я сел писать письма. Написал - Маршаку, Фадееву и в Совет Фронта. Надежды, что письма дойдут, было мало. И все-таки дошли.
* * *
Почти четыре месяца я жил без карточек. После сказанного К. мама просто боялась идти в Дом писателя, напоминать о моем существовании. Управдом не знал и до сих пор не знает, что я лишен прописки. Может быть, не знали до поры до времени и в нашем 7-м отделении милиции.
* * *
Приблизительно в это время к нам перебрались жить тетя Аня с Ирой и Ляля. Ляле было ближе к институту, всем остальным казалось, вероятно, что в первом этаже находиться не так опасно, как, скажем, в третьем или четвертом.
Начался тот страшный, пещерный быт, о котором ни писать, ни вспоминать не хочется.
* * *
Продовольственных запасов в нашем доме никаких не было. Когда я заинтересовался этим вопросом и, заглянув на кухню, проинспектировал огромный белый шкаф, издавна называвшийся у нас "верзилой", я обнаружил там килограмма два пшена, стакана два-три манной крупы, немного сахара, кофе, начатый цибик чая. Мама никогда запасливой не была, хотя пережила и революцию, и гражданскую войну и ей было хорошо известно, почем фунт лиха.
У Ляли, учившейся тогда на последнем курсе института иностранных языков, в начале декабря состоялся преждевременный, скоропалительный выпуск. Недоучившись, она получила диплом учительницы немецкого языка. Но кому она была нужна с этим дипломом в городе, где большинство детей было эвакуировано, большинство школ не работало? Она искала работу повыгоднее, похлебнее: на рабочую карточку. А пока что жила на студенческую, то есть на служащую. Ира тоже на служащую. Мама и тетя Аня на иждивенческие. Я - вообще без всякой карточки.
Ира Большая работала в столовой Лесотехнической академии. Приносила мне каждый день в судочке несколько ложек гречневой размазни или кашу из чечевицы. Конечно, я делил эту порцию с мамой и Лялей. Потом институт закрылся или эвакуировался.
На рынок мои женщины идти упорно не хотели. Тетя Аня, это реликтовое явление матриархата, провозгласила лозунг:
- Рынок - это мужское дело.
Я сердился, спорил, шумел, но вообще-то, пожалуй, она была права, тетя Аня. Это ведь не мирное время, когда домохозяйки, вооружившись кошелками, чинно следовали одна за другой на рынок, покупали вырезку, или судака, или почки на второе, клюкву для киселя, квашеную капусту, коренья для супа... Нынешний рынок - это охота. А охотой женщины, как правило, не занимались даже во времена пещерные.
Пошумев, понервничав, я брал деньги, или какую-нибудь пару ботинок, или коробок спичек и шел на Мальцевский рынок.
До войны я там не был ни разу. А когда в середине октября пришел в первый раз, колхозного рынка - с прилавками, весами и прочими атрибутами торговли - уже не существовало. Но сбоку, в проулке топталось несколько человек. На моих глазах зарождалась барахолка. Через полгода она заняла и проулок, и площадку рынка, и всю улицу Некрасова от Греческого проспекта до улицы Радищева.
Спекулянтов я не видел. Но маленький бизнес делали. Например, запомнился мне седокудрый старик, появлявшийся каждый день с одним и тем же "товаром": на ладони он держал круглое песочное пирожное с дыркой посередине. Просил он за него двести граммов хлеба. Позже мне кто-то сказал, что в то время в городе было несколько булочных, где вместо ста граммов хлеба можно было купить по карточке такое пирожное. Потом с этими роскошными порядками было покончено. Старик исчез. Боюсь, что и вообще его не стало.
Недели две меня выручали эстонские и латвийские папиросы. Они появились в продаже в позапрошлом году, и я покупал их больше из-за нарядных, экзотических коробок. Табак, по сравнению с нашим, был никудышный, вонючий. Но теперь эти неизвестно для чего хранившиеся у меня коробочки оказались драгоценной валютой. За пачку "Кексгольмской мануфактуры" (была и такая марка) давали сто - сто пятьдесят граммов хлеба.
Но много ли у меня их было, этих пестрых коробочек?
* * *
Я сказал, что деньги к тому времени уже ничего не стоили. В январе за килограмм хлеба просили 600 рублей. Давали и больше. Я видел на Литейном объявление! "За три килограмма хлеба продам рояль".