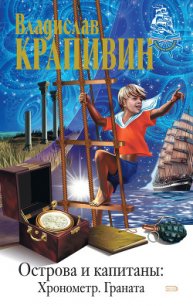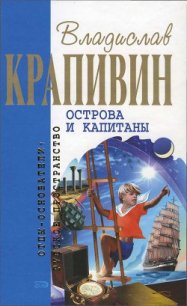Хронометр (Остров Святой Елены) - Крапивин Владислав Петрович (е книги .TXT) 📗
Может, до пощечины бы и не дошло, но в ответ на жесткие слова Алабышева, что матрос этот воевал еще под Навариным, когда барон сосал титьку у сытой наемной кормилицы с остзейского хутора, фон Розен изумленно открыл глаза. Он, не желая ссориться, разъяснил “Жоржу”, что свинья останется свиньей, несмотря на возраст, и свинство из русского матроса иначе как кулаком не вышибешь. Ну и схлопотал…
Случилось это на Кронштадтском рейде в 1846 году, через месяц после горькой вести о кончине адмирала Крузенштерна.
…Какие все-таки разные люди рождаются в одних и тех же местах! Крузенштерн, как и все эти “розены” и “фогты”, был уроженцем Эстляндии, но ни разу не мелькнуло в нем даже капельки остзейского чванства и холодности. Выше всех почитал и ценил он русского матроса.
…Фон Розен пискнул, ухватившись за щеку, и что-то пролепетал о секундантах. Однако дуэли не произошло. Назавтра барон отговорился неожиданной болезнью и скрылся в кронштадтском госпитале, а вскоре подал в отставку. Но то же пришлось сделать и Алабышеву, потому что командир “Михаила” капитан первого ранга Нефедьев по-отечески предупредил Егора Афанасьевича: близкие ко двору фон Розены начинают хлопотать о расследовании, где речь пойдет не столько о пощечине, сколько о причинах ее: вольнодумстве новоиспеченного капитан-лейтенанта, идущем от множества книг (в том числе, видимо, и запретных).
При внешней ровности характера Алабышев не лишен был внутренней запальчивости и рапорт об отставке написал без задержки. Казалось в первый момент, что и без особого сожаления. Вскоре, однако, начались черные дни, полные горечи об оставленной службе, с которою была связана вся жизнь. Горечь оказалась такой, что несколько раз сама собой возникала мысль о пистолете. Но слава богу, возникала и уходила. Воспоминание о судьбе второго лейтенанта “Надежды”, про которого не раз говорили между собой взрослеющие гардемарины, словно предупреждало: “А что дальше-то?”
“У Головачева не было того, что пересилило бы горести его и обиду на предательство, – подумал наконец Алабышев. – Не было дела, которое казалось в жизни важнее всего. Не было своей книги ”.
А у Егора Алабышева была…
К тому же он помнил слова Крузенштерна: “Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это…”
Защищать штатскому человеку было вроде бы некого, но и мысли о пистолете больше не приходили.
Вскоре отставной капитан-лейтенант оказался в родной деревне. Мечты о патриархальной жизни, коими сначала тешил себя, быстро развеялись. Дочка соседа, с которой возник было чувствительный роман, кончать дело свадьбой не захотела, трезво рассудив, что у владельца зачуханной Вартеньевки – ни капиталов, ни выдающейся внешности. Оставшееся от родителей именьице стремительно разорялось. Была еще возможность сохранить хоть какие-то средства: один из соседей искренне сочувствовал Алабышеву и предлагал за Вартеньевку приличную цену. Алабышев отказался.
Он не считал себя вольнодумцем, но мысль, что придется торговать людьми, с которыми в детстве бегал по окрестным лесам и строил из плотов парусный корабль, была тошнотворна. Чем он тогда оказался бы лучше фон Розена?
И Егор Афанасьевич окончательно уронил себя в глазах местного дворянства: отпустил последние десять семей Вартеньевки на волю и сдал им землю в почти безденежную, чисто символическую аренду (за которую так ничего никогда и не получил).
Затем Алабышев уехал в Москву, где поступил к некоему графу Бессонову заведовать его богатейшей библиотекой. Это были два года спокойной жизни. Тосковал, правда, по морю, но работа над рукописью о плаваниях смягчала тоску. Но граф умер, а наследники библиотеку продали по частям. И Егор Афанасьевич, зажегшись новой мыслью, решил ехать через всю страну на Камчатку, ибо знал, что Российско-Американской компании всегда нужны люди, понимающие в морском деле.
Судьба, однако, распорядилась, что неожиданная встреча в пути послужила началом нового романа – увы, тоже неудачного. Следствием же было то, что Алабышев на несколько лет застрял на Урале и служил под Екатеринбургом на Каменском пушечном заводе. Он ведал испытаниями орудий, которые завод поставлял флоту. Служба шла отменно, и предвиделось повышение. Но в местных библиотеках, хотя и недурных, не было материалов, нужных для его морского сочинения, и рукопись пылилась, не доведенная и до половины.
И море было далеко…
Здесь, на заводе, и застало Алабышева известие о Синопском сражении. Стало ясно, что наступают новые времена и развитие большой компании с участием флота неизбежно. А значит, и офицеры понадобятся.
Алабышев кинулся в столицу…
На пустыре, где стоял ребячий бастион, прежнего шума уже не было: видно, противники заключили перемирие. И народу стало теперь меньше. Несколько мальчишек, подпрыгивая, поправляли гребень снежной стены. Среди них Алабышев увидел белоголового мальчика без шапки – того, что недавно перекликался с Лесли. Рядом с мальчиком стояла тощая девочка того же роста, она держала за руку закутанного в платок карапуза.
Девочка тонким и вредным голосом повторяла:
– Ох, Васька, ты только приди, только приди домой, маменька тебя взгреет, ух и взгреет хворостиной маменька тебя, Васька, ты только приди…
Мальчик подскакивал, стараясь дотянуться до гребня. И отвечал при каждом прыжке:
– Ну и приду!.. Ну и врешь!.. Это тебя взгреет!.. А не меня!..
Прыгая, он поскользнулся, встал на четвереньки и встретился глазами с Алабышевым.
– Эй, дружок, подойди-ка, – сказал Егор Афанасьевич.
Мальчик безбоязненно подошел. Следом двинулась сестренка, увлекая за руку падающего карапуза.
– Я табакерку тут обронил. Не находили?
– Находили! – обрадовался мальчик. – Ее Петька Боцман подобрал, он там, в баксионе… Говорит, их высокоблагородие придут если, я с них двугривенный спрошу за находку!
– Ну, пойдем в ваш “баксион”… А ты что же без шапки-то?
– У него шапку маменька спрятала, чтобы из дому не бегал, – ехидно сообщила девочка. – А он все равно, неслух…
– И врешь! Шапка сама потерялась. А мамка говорит: сиди дома, если потерялась! А матросы разве сидят, когда война?
– Но матросы-то все в шапках, по форме, – усмехнулся Алабышев. – А у тебя голова с холоду отсохнет.
– Не отсохнет! Если сильно холодно, я вот так! – Мальчик накинул на свои вихры широкий ворот рваного бушлата. Но тут же сбросил его, завертев круглой головой на тоненькой шее. И Алабышеву, не чуждому литературных сравнений, пришла мысль о выросшем на мусорной куче одуванчике.
– Ну, идем. Будет твоему Петьке двугривенный, а тебе полтинник на шапку… Вот, держи.
Но мальчик спрятал руки за спину.
– Не… Мамка не велит брать у незнакомых. Мы не бедные.
– Ну… а разве мы не знакомые? Ты – Васька. Я – Егор Афанасьевич. Вот и познакомились. Бери, не бойся…
Васька нерешительно протянул покрасневшую ладошку. Глянул на сестру: – Дашка, ты гляди не соври, что я просил. Их высокоблагородие сами дали… Благодарствую, Егор Афанасьич…
Дашка завистливо сопела.
Васька повел Алабышева в ребячий бастион. Внутрь укрепления можно было попасть лишь через узкий проход, прорезанный в толще тыльной стены – горжи. Ребятишки проскользнули легко, а капитан-лейтенант еле протиснулся. И остановился у входа.
Здесь копошились со снежными “кирпичами” несколько мальчишек лет от семи и до двенадцати.
– Вот он, Петька-то… – начал Васька и примолк, подняв лицо и приоткрыв рот. И остальные ребята замерли – с тем же тревожным ожиданием, что и Васька. И Алабышев уловил далекий еще, но нарастающий, нарастающий свист.
Он усилился, этот свист, ввинтился в голову, в душу, вырос до нестерпимого визга и оборвал себя тугим, встряхнувшим снежный бастион ударом.
Пущенная с английской батареи граната шипела и вертелась в облаке пара посреди квадратной игрушечной крепости. Черный, небольшой – дюймов пять в поперечнике – шар с дымящимся хвостиком фитиля.