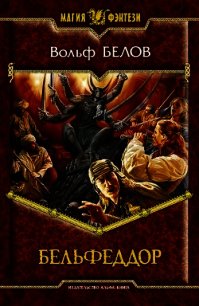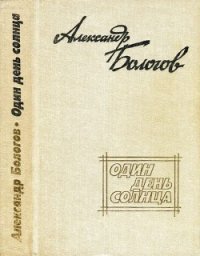Колесо племени майя - Дорофеев Александр (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
– Даже уродившись змеей, – грозил пальцем фрамбуяне, – можно кое-чего достичь!
Бошито, как мог, устранялся от жреческих дел, поскольку не владел самыми простыми навыками, – даже дождь не умел вызывать.
Это раздражало и бесило Балама.
Однажды в его голове мелькнул дротик, намекнувший, что пора окончательно устранить брата, чтобы не путался под ногами черненькой шатающейся тенью. К тому же ожило воспоминание, как Бошито закапывал его в землю.
И вот именно в тот день, когда Чанеке вылетел из своей темницы, растворившись в свете, один его сын решил убить другого.
Как в дом с плохой крышей просачивается дождь, так голова безумца наполняется злобными замыслами, сказал бы Чанеке.
Баламу вдруг показалось слишком грубым заколоть Бошито ножом, проткнуть пикой или подстрелить из лука.
«Так с братьями не поступают!» – отругал он себя, торопея от эдакого великодушия.
Конечно, всегда под рукой Ахау Кан, но Баламу не хотелось, чтобы любимая чистая змея вонзала зубы в пропитанное брагой тело.
Поэтому он отравил брата грибами, купленными у богини грязи Ишкуины.
Бошито хорошо поел, но не совсем умер. Лежал и бредил уже четыре кина.
«Грязь не липнет к грязи!» – свирепел Балам, слушая, как Бошито предрекает близкое будущее, в котором ничего хорошего не намечалось, – смерти, войны, разруха…
Когда речь зашла о том, что самому ахаву города Тайясаля суждено утонуть в озере, Балам плюнул брату в лицо и приоткрыл корзину, где, свернувшись тугими кольцами, дремала его возлюбленная.
На утро Бошито был холоден, как камень, и черен, как спелый инжир.
А рядом с ним, будто жезл ахава, вытянулась во всю длину прекрасная Ахау Кан. Бошито крепко зажал в кулаке ее плоскую голову.
– Ах, мой бедный ненаглядный брат! – горько плакал Балам, гладя и целуя мертвую змею. – Я не хочу с тобой расставаться!
Из королевской змеи мастера сделали чучело.
И с тех пор Балам поклонялся одному божеству Ахау Кан – владыке пресмыкающихся.
Месть Циминчака
Змея
Всякое злое дело, тлея, подобно огню, покрытому пеплом, следует за злодеем, как ягуар, – след в след, подстерегая, когда напасть.
Балам стал единоличным правителем города Тайясаля – и ахавом, и жрецом.
В честь этого и учредил новый праздник – день рождения Солнца. Его отмечали в двенадцатый кин Чикчан двенадцатого виналя Кеха. Этот день получил имя Аау.
На восходе солнца двадцать особых «встреча-а-а-ул» и двадцать «крича-а-а-ул» ора-а-ули на весь город:
– А-а-а-у-у! А-а-у-у-у!
Повсюду разложили огромные костры. Казалось, будто солнце гуляло по городским улицам, полыхая во всю мощь. Такой был зной!
И по озеру Петен-Ица всю ночь ходили кругами сотни пирог и плотов с факелами. Многие воспламенялись, сгорая дотла.
В пригороде не осталось пальмовых чос. Они вспыхивали одна за другой и мгновенно превращались в теплую золу, которую разгребали ногами хозяева в поисках уцелевшей утвари. Сгорел почему-то и Дом пения, где еще совсем недавно обучали разным искусствам, в том числе вопить – «а-а-а-у-у!».
Дым и огонь этого праздника, вероятно, видели в самой Мериде. Во всяком случае, из развалин старинного города Тулума один человек смотрел, не отрываясь, на зарево в ночи, потому что был родом из Тайясаля.
– Неужели дядя совсем спятил? – ахал он, сидя на пирамиде. – Все решил пожечь?!
Хорошо, что Балам не слыхал этих слов. Зато уловил краем уха, как угрюмо пошутил его советник:
– Разве это день рождения Солнца? Похоже на рождение тьмы!
– Да, нашему верховному жрецу и ахаву Канеку маловато живого огня, – согласился другой, – вот запалить бы сельву!
Утро выдалось пасмурное и тусклое. Пока солнце отдыхало за плотными облаками от вчерашней гульбы, а земля кисло дымила головешками костров и пожарищ, двух советников-шутников зарезали на жертвенном камне.
Сам Балам обсидиановым ножом ловко вспорол им груди, извлек сердца и бросил в деревянный сосуд Орла. Принести жертву, выдрав сердце, куда проще, чем отыскать в своем сердце любовь, – много раз говаривал его отец Чанеке.
Конечно, Балам был сделан не из маиса. Впрочем, не глиняный и не деревянный. Возможно, из тех пород, что выплескиваются при извержении вулканов. Правда, они быстро застывают на поверхности, а Балам кипел и бурлил бесконечно, не принимая законченных очертаний. Он был первобытным существом, которому и не снилось еще яблоко с Древа познания добра и зла.
В конце концов, его осенило, отчего в городе неладно. Верховный жрец приказал немедленно исправить идола Циминчака, покалеченного монахом.
Увы, никто не помнил голову Громового Тапира. Да и была ли она вообще?
Когда вырубили из камня новую и кое-как приладили к туловищу, Циминчак стал похож на чудовищного зверя. Наверное, именно так выглядел изверг Чупасангре. Оглядев его, Балам одобрительно кивнул и велел раскрасить в черную и красную полосу.
И получилось как раз то, чего он добивался, хотя поначалу и сам бы не сказал, чего именно, – на редкость толстая змея, будто только что проглотившая лошадь.
В общем – устрашающая непарнокопытная гадючья тварь! Жители Тайясаля, увидев ее, заголосили и рухнули на колени.
Так старина Циминчак на сто двадцать пятом году своей божественно-идольской жизни лишился привычного облика, будто его заколдовали, превратив в королевскую змею.
А Балам не мог наглядеться и решил обвезти владычицу Ахау Кан вокруг острова и даже более того – кругами по озеру, чтобы оберечь город от всех бед и напастей, включая белых пришельцев.
Ранним тихим утром 4764 туна преображенного идола уместили в самую большую пирогу – восемь метров шириной, – выдолбленную из огромного дерева, из древней священной сейбы по имени Чичуаль.
Целых три виналя – и днем, и ночью – рубили каменными топорами сейбу. Говорят, она тяжело вздыхала, а когда уже падала, то закричала сотнями детских голосов.
Для ахава-жреца, которому только что исполнилось шестьдесят тунов, поставили высокий трон на носу пироги. Вдвое выше, чем полагался просто ахаву или всего лишь жрецу. Балам еле на него взобрался, одетый в тяжелое платье цицимитли, в змеиной маске, с обсидиановым мечом и жезлом в виде черно-красной извивающейся гадюки.
Уселись и гребцы. Грузная пирога медленно, едва не проваливаясь, выплыла на середину озера. Как вдруг раздался гром среди ясного неба, и накатила волна.
Пирога вздрогнула, накренившись, и Ахау Кан не удержалась. Так скакнула, будто бывший Циминчак – Громовой Тапир. Мощная каменная грудь ударила Балама по голове.
Широкие его одежды угодили в кривозубую змеиную пасть, и вырваться не было сил.
Так скрылись они под водой и улеглись на дне в обнимку, заносимые илом.
Балам долго и мучительно одолевал девять рек загробного мира, пока не достиг места успокоения, где поджидал его Ах-Пуч – бог смерти, владыка подземного царства.
Не трудно догадаться, как встретил он Балама, если во рту у того не оказалось ни одной нефритовой бусины. Может статься, и по сию пору слоняется Балам неприкаянный. Где, спрашивается, примут такого?
А что касается идола, то краска с него быстро смылась, отпала змеиная башка, приделанная абы как, и он снова стал обычной, просто много повидавшей лошадью. Наверное, и сам генерал-губернатор Эрнан Кортес признал бы теперь в Циминчаке своего гордого, хоть и без головы, коня Хенераля.