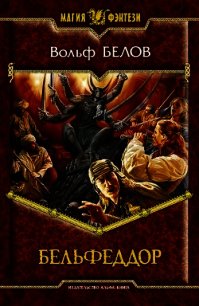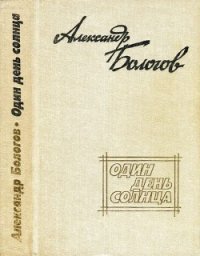Колесо племени майя - Дорофеев Александр (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
Три четверти
Сова
Сейчас он спал под пирамидой на каменном сундуке и впервые за многие годы слышал голос Бехуко, которая не только плакала, но и шептала сквозь слезы:
«Ты здесь умрешь! И мне горько вдвойне, потому что виной тому наши дети, рожденные во тьме».
Балам и Бошито тем временем, стараясь не шуметь, замуровывали узкий дверной проем. Они впервые в жизни что-то строили, и это оказалось занятно. Обтесанные камни хорошо подходили один к другому, ловко сцеплялись раствором, укладываясь без щелей и зазоров.
Втиснув последний, Балам оттянул нижнюю губу, в которую недавно продел нефритовое кольцо:
– От ветхого старика нет проку, – усмехнулся он, – только пустые сомнения! Даже золотой скорпион у него не настоящий, а живой и кусачий.
– Да, у папы было сердце коровы, – кивнул Бошито, погладив ровную прочную стену.
На следующее утро братья объявили, что Чанеке умер.
Балам стал новым ахавом Канеком, а Бошито – верховным жрецом.
Об отце они забыли к вечеру того же дня.
Однако старик Чанеке, хоть в это и трудно поверить, прожил в заточении еще целых три туна.
Он думал о жизни и молился. Через отверстие в сводчатом потолке обращался к Цаколю-Битолю.
Но отвечала мама Сигуа. Уже дряхлая старушка, она спускала на веревке еду и воду. И говорила сыну слова утешения гудящим трубным голосом.
– Йо-йо, что тебе принести? – спрашивала Сигуа. – Ты хорошо ешь? Не голодаешь? У тебя ничего не болит? Как ты спал, сынок, эту ночь? А на улице сегодня ливень, и вчера и позавчера… Ты мой бедный, бедный Йо-йо!
Большего она не могла сделать. Вскоре голос исчез, и Чанеке понял, что его мать умерла.
Но через день веревка с едой вновь спустилась в темницу.
Правда, эти подношения были беззвучны, и Чанеке не знал, кто еще помнит и заботится о нем.
Постепенно он научился видеть в темноте подземелья, как сова, и писал длинные письма Бехуко.
Он рисовал на стене округлые знаки, или образы, которые должна была прочесть и понять его любимая.
Как только он заканчивал, эти знаки срывались, будто бабочки с узорами на крыльях, и улетали туда, где находилась Бехуко.
А на каменной стене оставались углубления, иероглифы – священная резьба.
Давно уже не видев неба, Чанеке чувствовал, когда за стенами утро, а когда вечер.
Он ощущал закат своего народа, племени майя. И это, как уходящее солнце, навевало грусть.
Но бывают такие закаты, от которых сердце замирает.
Он знал, что предки-майя не были изгнаны из своих городов чужеземцами. Они не умерли от голода и болезней. Их души, как и земли, не истощились.
Просто большинство из них, пройдя множество земных кругов, превратились в чистый свет. Они вышли из катящегося колеса Вселенной, чтобы испытать жизнь в иных мирах.
– И ты можешь стать, как они, – говорил себе Чанеке. – В душе твоей заключены такие силы, о которых ты даже не догадываешься. Пернатый змей Кукулькан чудесным образом научился летать. Так и человек, возвышая свой дух, достигает права на небесное бытие.
В тот день, когда Чанеке миновал три четверти полного колеса майя, он написал на стене:
«Земля была кубом, а превратилась в шар, на котором уже трудно мне удержаться!»
А еще нарисовал птицу кетцаль.
И как только утренняя Большая звезда поднялась в верхний мир, Чанеке взмахнул руками и вылетел в круглое оконце, что было предназначено, конечно, не для спуска пищи, а для отхода души.
Устремившись к яркому свету, он освободился наконец от сомнений.
Так весело было, так хорошо и беззаботно, как когда-то мальчику, которого звали Йо-йо.
Будто птица кетцаль, Чанеке вспорхнул под небеса и растворился в солнечных лучах.
Имя ему теперь Итцпапалотль – бабочка света. Впрочем, трудно сказать, на каком языке его произносят.
Самый длинный месяц
Кремень и нож
Все эти туны Балам и Бошито поклонялись Ауикле – ближнему божеству роскоши, бездельников и бессмысленных бродяг, без направления и цели.
О Цаколе-Битоле они и думать не думали, – так далек был от них Творец и Создатель. Впрочем, ровно настолько, насколько сами того хотели. Можно сказать, Цаколя-Битоля, в точности, как родного отца, замуровали они в глухом подземелье.
С утра до вечера в городе веселились. Горланили песни, трубили в раковины и кривые дудки. На площадях танцевали под писк свистулек, звон бубенцов, колокольчиков и гул барабанов. У стен дворца отплясывали в лицах историю индюка, решившего стать царь-птицей. Неподалеку протекал, не кончаясь, унылый танец раненого оленя. И тут же радостный хоровод дряхлых старичков, прощавшихся с жизнью, и пляска койота, который преследует индейку, но сам попадает в западню.
Сражались в пок-а-ток, не на жизнь, а на смерть, поскольку проигравших сразу резали, как ягнят, вырывая сердце.
Правда, в череде праздников и гуляний случилась небольшая заминка. Началось с того, что один из каменных братьев-бакабов, лежащих в сельве, оказался сестрой, родившей ни с того, ни с сего младенца, – метра полтора величиной и такого тяжелого, что под ним земля прогибалась. По дну озера Петен-Ица он вышел прямо в Тайясаль.
Утром в храме обнаружили каменного малютку, восседавшего на спине безголового Циминчака. Его сердце-булыжник билось, но очень медленно, неторопливо – один удар в сутки. Так же неспешно говорил – по два звука за день. Жрец Бошито внимательно слушал, чтобы сложить слова и разобраться, чего же хочет истукан. Он не заметил, как мимо проскользнул мальчик лет двенадцати с мотком веревки под мышкой.
– Ну! Что получается?! – наведывался то и дело нетерпеливый брат.
Бошито припоминал, почесывая затылок:
– «Не». Дальше – «йо». Потом – «ль!»
– Очень болтливый! – злился Балам. – Нейоль?! Может, его имя?
– «Ме», – добавил Бошито. – На сегодня это, пожалуй, все…
Баламу надоела волокита. Подступив к истукану, он взмахнул дубиной, утыканной кремниевыми шипами:
– Говори сразу! Не то пожалеешь…
Возможно, и само дитя хотело высказаться немедля, да каменный язык плохо ворочался. А уж коли Балам замахнулся, так обязательно саданет! И дубина его обрушилась, расколов на куски невольного молчуна. Голова, катясь по полу, вдруг напоследок выпалила:
– Ла-уа-ли-стли!
– Вот как! – заорал Балам, дробя в крошку каменные члены, – Нейольмелауалистли?! Исправление людских сердец?! Вот что ты задумал! Никто не смеет устанавливать тут свои порядки!
В общем, исповедь и прощение, то есть обряд исправления людских сердец, который был бы очень кстати, увы! – не состоялся. А каменные бакабы из сельвы все, как один, отвернулись от города Тайясаля.
В девятнадцатый месяц Майеб братья отмечали день рождения. И этот несчастный короткий виналь, растягиваясь, удлинялся бесконечно – не менее чем в двадцать раз.
Уже ободрали все деревья, дававшие бобы какао. И когда платить стало нечем, Балам и Бошито продали испанскому негоцианту старинное золотое солнце с пятью изогнутыми лучами, а заодно серебряных голубку, сову и попугая.
Возможно, эти безделушки имели какую-то тайную силу и охраняли город.
Так или иначе, а над озером и островом образовалась странная прореха, куда прыснули всякие напасти и мрачные знамения.
Откуда ни возьмись, появились лысые грудастые тетки, норовившие задушить каждого, кто подворачивался под руку, и превращавшие детей в летучих мышей. Балам нацепил маску из листьев магея, которая охраняла от колдовских прелестей, и разогнал теток особым кнутом, сплетенным из гремучих змей. Они спаслись вплавь и долго потом стенали в сельве.
Затем случилось крылатое вторжение. Носились колибри со шпорами, срезая на лету все выдающееся – хоть уши, хоть носы! Порхали обсидиановые бабочки с острыми крыльями, рассекавшими кожу до костей. Стаи иссиня-черных птиц Кау прилетели справлять свадьбы и орали так пронзительно, с раннего утра до захода, что не слышно было человеческой речи. Тучи москитов заполонили остров, чего раньше не бывало. И все, от мала до велика, так чесались, будто отплясывали какой-то старинный охотничий танец.