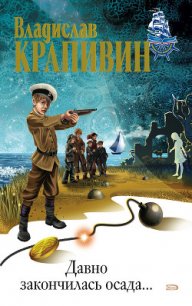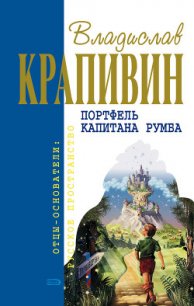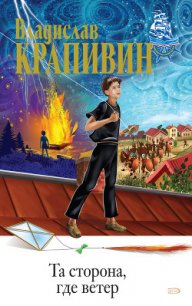Давно закончилась осада... (сборник) - Крапивин Владислав Петрович (книга жизни TXT) 📗
— Прямо завыть иногда хочется…
— Не надо выть. Все еще наладится, — снисходительно утешил Эдик. Его лицо румянилось от экрана, где расцветал розовый пейзаж.
— Наладится, жди, — буркнул Оська. И выдал недавно родившуюся у пятиклассников поговорку: — В другом пространстве…
Эдька глянул странно. Как-то нерешительно и вроде бы приглашающе.
— А можно ведь и правда в другое пространство… в натуре. Чтобы жить, не горевать…
— Ты это о чем?
— Будто не понимаешь. Нюхнул, ухватил кайф и “цвети, душа, как подсолнух”. Универсальное лекарство от всех печалей…
— Клей “Универсал”, что ли?
— Дошло…
— Идиот, — убежденно сказал Оська. — Дебил малосольный. Это же… как наркомания. Начнешь — потом не выберешься!
— Да кто тебе сказал?! Взрослые просто лапшу вешают! Ради своего спокойствия. Их послушать, дак ничего нельзя! Курить нельзя — а сами!.. Водку пить нельзя — а сами!.. И вообще… ничего нельзя. А сами… Никто еще не помер от “Универсала”. Наоборот…
— Что “наоборот”?
— Ты просто как новорожденный теленочек. Ничего не знаешь. А у нас в классе уже половина пацанов пробовала.
— Не ври!
— Ну, не половина… а все равно многие.
— И ты?
Эдька неопределенно повел плечом.
— Если ты… правда… — беспощадно выговорил Оська, — я с тобой больше… никуда… и никогда…
— Да ладно, ладно, — хмыкнул Тюрин. — Чего ты расплакался? Я пошутил.
И Оська сделал вид, что поверил.
А через неделю, когда еще одна двойка (несправедливая!) от Угрозы и после этого крикливая нахлобучка от мамы — со смешным обещанием “сдать в детский дом” — и новое сообщение по сети от отца, что по-прежнему с долгами ничего не ясно, и скандал с Анакондой из-за ее потерявшегося дурацкого шарфика… в Оське будто лопнуло. Он побежал к Эдьке (это рядом, через двор) и, проглотив слезы, отчаянно сказал:
— Ну! Как это делается?
И случился тот ужас…
Собрались недалеко от дома, где жил их одноклассник Борька Сахно по прозвищу Сухой Боб. Кроме Боба, Эдьки и Оськи, был еще коротышка Саньчик из шестого “А” и незнакомый пацан, которого называли Бул и нька. Холод был, пахло бензином и помойкой. У одного гаража лежала бетонная балка. Присели на нее, ледяную. Боб достал целлофановые пакеты. “Ох, а если кто узнает…” — запоздало толкнулось в Оське. Булинька сидел рядом.
— Ты не бойся, — суетливо шептал он, потирая ладошки. — Сперва непривычно, а потом во как… — Он даванул в пакет пахнущую бензином гусеницу, сдернул с Оськи шапку. Натянул ему на голову шелестящий мешок — жидкий клей размазался по щеке и подбородку. Сладкий запах удушающе забил рот, нос, даже уши. Оська задергал руками, желая сорвать пакет.
— Да ты постой, постой, — донеслось из другого мира. — Ты потерпи трошки… сейчас будет кайф…
Сдернуть пакет не удалось, воздуха не было, Оська судорожно вдохнул то, что под пакетом…
…Полетели желтые бабочки. Густо, солнечно. А может, не бабочки, а цветы. И не только желтые, а всякие. И очень крупные, пахучие. Они сложились в узор, и в узоре этом была какая-то веселая загадка. Вроде головоломки. Разгадаешь, и случится небывалая радость. Но разгадать Оська не успел, узор изменился, из него сложились две клоунские рожицы — такие уморительные, что Оська зашелся неудержимым смехом. А рожицы рассыпались тоже. И Оська понял, что яркие пятна — это уже не цветы, не клоуны, а разноцветные юнмаринки ребят, которые мчатся по лугу на лошадях. И к Оське подвели золотистого коня. Никогда Оська раньше не ездил верхом, а тут мигом взлетел на лошадиную спину, ударил босыми пятками гнедые бока — и вперед! Навстречу луговому ветру и множеству солнц следом за желтой юнмаринкой далекого всадника.
— Норик! Подожди!
А солнца гасли. А цветы серели. А небо темнело. Чернело оно, опрокидывалось на луга, наваливалось ватными глыбами, сбило Оську с коня, задавило душной тьмой…
…— Снимай, скотина! Он же помрет!
Холодный воздух рванулся внутрь Оськи.
— Тряхните его! Булинька, гнида, ты куда смотрел!
— А я чего? Я ему как всем…
— Паразит… Оська, подымись!
Как подымись? Куда подымись? Непонятно, где верх, где низ. Земля встала торчком, гаражи мчались на Оську. Подкатила тугая теплая рвота, его вывернуло прямо на ноги…
— На ветер его надо, чтобы выдуло всё!
Да! На ветер! На ледяной беспощадный ветер, чтобы он вычистил из Оськи всю эту нестерпимую муть! Чтобы упасть и умереть спокойно…
Его поволокли под руки. Кажется, на улицу, на обочину. Зачем? Спасительного ветра не было и там. Оську опять вывернуло наизнанку. Свет пасмурного дня был нестерпимо резким. Оська упал на колени. Рядом завизжали тормоза. Оську отпустили, стих за гаражами частый топот.
Крепкие руки рванули Оську вверх. Кажется, незнакомый дядька. Пусть делает, что хочет, хуже все равно уже не будет… Дядька замотал его в какой-то брезент.
— А то разукрасишь мне всю машину…
Он затолкал Оську на заднее сиденье. Автомобиль рванулся. Оська закрыл глаза. Опять подкатило… Нет! Не надо!..
Потом Оську несли, стаскивали с него одежду — всю, до ниточки. Пусть. Все равно умирать…
Обжигающе горячая (или обжигающе холодная) вода ванны, сверху тугие, тоже обжигающие струи… Пена… Оська наконец приоткрыл глаза. Увидел, что моет его не дядька, а высокая седая старуха. Мыла она крепко, с нажимом, поворачивала и терла, как куклу. Пусть… Не было сил ни для спора, ни для стыда. Только…
— Ой… горячо…
— Терпи, добрый молодец. Скажи спасибо, что живой…
Правда живой? Ой…
Старуха выволокла его из ванны, растерла тремя решительными взмахами, закутала во что-то. Сунула к губам чашку.
— Пей.
В чашке было холодное, горькое, пахнущее аптекой…
— М-м-м…
— Пей сейчас же! — И шлепок.
Он сглотал. И сразу опять:
— М-м-м… — разглядел унитаз, сунулся к нему головой. Выплюнул все…
— Вот и хорошо. — Старухины руки снова подняли его. — Яков! Уложи это чадо, пусть отойдет…
И вновь пришла темнота — но уже не тяжелая, а спасительная, без мук…
Очнулся Оська ранним вечером. За окном незнакомой квартиры была густая синева. Горела на столе лампа. Хозяин квартиры стоял над Оськой и глядел с высоты своего роста. Оська смутно вспомнил, что во время всей суеты старуха называла этого дядьку Яковом.
Лицо у Якова было не просто худое, а чересчур. Одна щека более впалая, чем другая, словно втянута внутрь. И на ней кривой белый шрам. Рот был большой и насмешливый. Продолговатые, непонятного цвета глаза сидели так широко, что, казалось, будто уголки их выходят за виски. А над узким лбом клочками торчала темная шевелюра с проседью.
Несмотря на проседь Яков был не старый. Примерно как Оськин отец, а то и моложе.
— Ну? — высоким голосом сказал Яков из-под потолка. — Очухался?
Оська шмыгнул носом. Прислушался к себе. Стыдливо сказал:
— Ага…
— Тебе повезло, — усмехнулся Яков. — Ты принял самую подходящую дозу. Не такую, чтобы помереть, но достаточную, чтобы понять, какая это… блевотина.
Оська содрогнулся и тяжело задышал. Он помнил, что с ним было. Скомканно, обрывками, но помнил.
— Перебирайся в кресло, я поправлю постель.
Оська зашевелился и понял, что он в большущей пижамной куртке на голое тело. Сел. Качнул головой. Она не кружилась, только была какой-то чересчур пустой… Боясь нового приступа дурноты, Оська неловко перебрался в кресло. Натянул подол на ноги.
Яков разгладил простыню, взбил подушку — словно готовил постель для кого-то еще.
— А одежда? — боязливо спросил Оська. — Она где?
Яков шагнул к столу.
— Одежда подождет. Она пока ни к чему. По крайней мере, штаны. Мы еще не закончили программу. Была санитарная часть, а теперь, после антракта, предстоит воспитательная.
“О-о-о…” — раздалось внутри у Оськи. Похоже на вскрик Норика на обрыве, когда тот ужаснулся высоты. Оська съежился и замер.