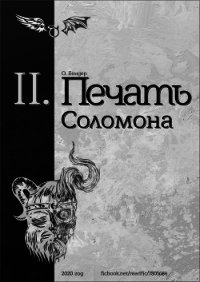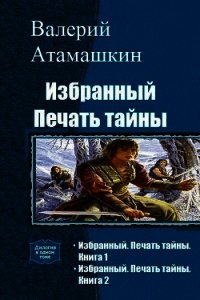Чужаки - Вафин Владимир Александрович (книги без регистрации бесплатно полностью txt) 📗
Утром воспитатель заставил его три раза вымыть коридор. От досады хотелось кричать.
Были здесь и работники, которые Пашке нравились. Он прозвал их «добряками» и все время с нетерпением ждал. С ними жизнь в приемнике становилась терпимее, но «ментов», как назвал их Олег Андреев, пацан, который сто раз попадал сюда, было больше, и порой у Пашки возникала мысль сбежать, но Олег сказал, что это глухой номер: решетку только динамит возьмет.
— Ты лучше хитри с ментами, коси под дурака, — посоветовал он. — А если не получится, ори, как припадочный, и начинай психовать.
Пашка попробовал несколько раз воспользоваться этим советом — получилось, и вскоре его оставили в покое. Иногда ему доставалось от воспитателя-сержанта. Пашке в приемнике было скучно и тоскливо. Ему вспоминался вокзал; иногда дом, мать. Когда он думал о ней, то чувствовал, как его жжет тоска. Он часто смотрел сквозь решетку на дорогу, по которой разными путями уходили из приемника: кто в спецдома, кого возвращали к родителям... Однажды его позвали вниз:
— Поедешь домой, тормоз, — сказал доктор и пнул его под задницу. /
Когда он увидел отчима, то все понял.
Дома Пашка скоро снова почувствовал его тяжелую руку.
— Еще раз убежишь, сморчок, я об тебя совок сломаю, — пригрозил он, — и всю задницу разрисую.
Дома Пашка продержался день. На следующий он уже приехал на вокзал, где нашел Бабая с пацанами и снова стал бичевать. Они находили таких же беспризорных бродяг и вместе с ними совершали мелкие кражи. По вечерам они играли на автоматах, ходили на видюшник, потом — в пельменную. Спать шли в теплушку. Только Пашка ходил еще к крымскому поезду.
Невзлюбил он всей своей душой милицию.
— Если бы не ловили, долго бы бегал, — говорил он. Но лютой ненавистью возненавидел Пашка приемник-«муравейник» из-за ментов, вечного мытья коридоров и голода по ночам. Однажды, когда его переодели и привели в инспекторскую, где сидел отчим, в который раз приехавший за ним, женщина-капитан спросила его:
— Ты долго еще будешь бегать, придурок? Вы уж держите его, — обратилась она к отчиму.
Пашка тогда не вытерпел и закричал:
— Врете! Вы сами говорили: «Пусть бегает для плана! А то еще уволят!»
— Что? — от негодования лицо у капитана покрылось пятнами. — Да я тебя в «дисциплинарку» упрячу в пять минут.
— Не посадите! Вы этому гаду меня отдадите, — встретившись со злобным взглядом отчима и заметив, как у него дернулось лицо, Пашка выдохнул: — Только я все равно от него убегу!
И как крепко отчим его ни держал, он все-таки сбежал на вокзале, который знал лучше, чем свой дом, и растворился в толпе. Пашка снова пошел бичевать. Ему нравилась такая жизнь. Никто на тебя не орет, никто не бьет, если, конечно, не сцапают менты, а то они грозились закрыть его в спецшколу.
Домом Пашки была теплушка, друзья — те, кто спал рядом. И он находил себе на вокзале новых и новых друзей.
— Эй, пацаны, пошли бичевать! — звал он подростков, убежавших из дома или интерната, и, уже наученный горьким опытом, учил новеньких: — Ты, как увидишь ментов, не беги, иди спокойно.
Разные уроки он «преподал» неприкаянным «капитанам вокзала». Беда его была в том, что милиционеры уже знали его в лицо, и он снова и снова попадал в «муравейник», где его в насмешку прозвали жильцом с временным ордером. Он уже привык к злобе и ненависти к нему сотрудников, даже «добряки» стали на него орать так, что в ушах звенело.
Если когда-нибудь вы встретите на вокзале двенадцатилетнего русого мальчишку с печальными глазами, в грязной, заношенной куртке, знайте — это он, «Пашка-Крым», у которого отчим отнял мать и дом, радость детства. Может, он и сегодня с надеждой провожает поезд на юг и видит себя в вагоне с матерью и сестренкой, едущими навстречу ласковому и теплому морю...
Поезд набирает скорость, уходит в вечернюю тьму... На перроне остается подросток, прозванный за свою мечту «Пашка-Крым».
Потерянные дети
Каждый раз я испытываю волнение, соприкасаясь с болью, в особенности с детской. Она оставляет отметину в моей душе и не дает покоя. Вот и этот случай — один из тех, которые я храню в сердце.
Как-то вез я в поезде в детский дом малыша.
— Сколько вашему? — спросила меня попутчица по купе.
— Что? — переспросил я, укладывая Олежку спать на верхнюю полку.
— Сколько вашему сыну?
— Пять, да только он не мой, а государственный.
— Как это? У него что, нет родителей? — удивилась женщина.
— Да были, но лучше бы их вообще не было...
Пришлось рассказать. О печальной участи Олежки говорить было трудно. Отец у него был из тех, о которых говорят: сделал свое дело — и ищи его. И мать вроде поначалу была матерью, а потом в тягость стал ей Олежка. Он не давал ей жить весело, не работая, праздники дома устраивать. А когда ушел последний ее «друг» по кутежам, она, закрыв сына в квартире, помчалась за ним. День прожил Олежка взаперти голодный, а потом соседи дверь открыли и ахнули. Лежит мальчишка в грязной одежде на постели, без простыни, покрытый старым пальто. Кругом грязь, на столе пустые бутылки, хлеб с плесенью и кости от селедки. Взяли они малыша к себе, хотели прихватить игрушки, да только не нашли, потому что их не было вовсе. Отмыли, накормили его и повеселел мальчонка, улыбается и что-то лопочет. Прислушались, а он матерится. Научили его этому чужие дяди для забавы. Появилась мамаша и скандал закатила: «Мой ребенок, что хочу, то и делаю, вы мне не указ, и не капайте мне на мозги!»

Неделю жила она с сыном, и опять глаза Олежки видели пьянки, а уши слышали ругань. И вновь, уже не закрывая его, она сбежала в поисках «любимого». Не подумала о сыне, а он голодный и грязный бродил по улицам и звал мать.
Нашли Олежку в заброшенном доме, а на улице ноябрь. Кое-как отходили его в больнице, и после этого лишили его мать прав на Олежку. Лишили материнства за то, что она отняла у него радость детства, обрекла на голод.
Так Олежка оказался у нас в приемнике. В первые дни чурался всех, ходил испуганный. Ночью проснется, плачет, мать зовет, а нам говорит: «Вот попирует, попирует и меня от вас заберет, вот такушки.» Так говорил, будто пировать — это значит работать. И верите-нет, за обедом не ел ни кашу, ни суп, а хлеба просил. Но день за днем душа ребенка оттаивала.
Настала минута — улыбнулся он, радостно так. Потом расшалился, и в игровой стал слышен его звонкий смех. А как он пел! Особенно про айсберг... Одним словом, ожил у нас Олежка, уже никого не боялся. Меня как в дверях завидит, бежит, обхватит ручонками за шею и прижмется щекой, потом вскинет свои веселые глаза и зашепчет:
— А к нам сегодня моряк приходил. Я вырасту, тоже моряком буду.
Неожиданно с верхней полки донесся плач. Меня царапнуло беспокойство и я сорвался с места. На постели сидел Олежка и тер кулачками глаза.
— Ну что ты, малыш, приснилось что нехорошее?
Олежка обхватил меня и прижался ко мне своей теплой щечкой.
— К тебе хочу, — прошептал он мне на ухо.
Я прижал его к себе и присел на полку, стал покачивать Олежку, поглаживая по его светлым, словно освеченным солнцем волосам. Он заулыбался, глядя на меня сияющими голубыми глазами, будто маленькое солнышко. Улыбнувшись ему в ответ, я запел: