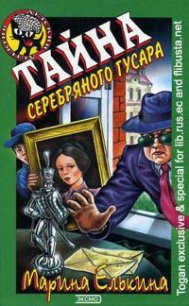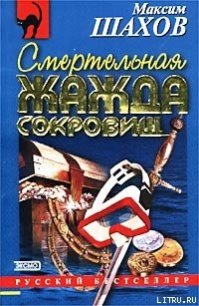Тайна старинного парка - Елькина Марина Валерьевна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
— В любом случае, — продолжил Леонид Матвеевич, — теперь мы можем понять, из-за чего он так настойчиво вас преследует. Согласитесь, никто не хочет, чтобы его личный дневник попал в чужие руки.
— А по-моему, именно этого Поляков и хотел, — задумчиво произнес Костя. — Он же обращается к потомкам. Значит, рассчитывает, что потомки прослушают дневник гениального человека.
— Если так, то зачем он этих потомков, то есть нас, преследует? — улыбнулась Ира.
— Наверное, не хочет считать нас потомками, — сказала Зина. — Мы ему не понравились. Особенно Львенок, который взял да и утащил у человека дневники.
— Опять я виноват!
— А ты всегда виноват, потому что сначала делаешь, а потом думаешь.
— Зато ты только и делаешь, что думаешь, — огрызнулся Львенок. — Издумалась вся!
— Я не беру чужие дневники. Это плохой тон.
— Да я же не знал, что это дневник! Сто лет мне нужен чей-то дневник!
— А знаете, может, он испугался, что мы повредим дневник, — предположил Костя. — Катушечные магнитофоны сейчас редки, запаянный чемоданчик открыть невозможно. Он подумал, что мы просто выбросим эти вещи за ненужностью, а здесь вся его жизнь.
— Костя прав, — поддержала Ира. — Тогда можно объяснить, почему он нас преследует. Только и другие его поступки требуют объяснения.
— Самое непонятное — это его действия в Петергофе, — напомнил Леонид Матвеевич. — Что он здесь искал?
— Клад, — уверенно сказала Зина.
— Клад? Что-то мелковато для гениального человека.
— Да какой он гениальный? — с презрением откликнулся Львенок. — Возомнил о себе черт знает что!
— Ну, откуда ты знаешь? — возразил Костя. — Ты же не понимаешь в физике. Может, то уравнение, которое мы слушали, в самом деле было гениальным?
— Я ничего не понимаю в физике, — согласился Львенок. — Но профессор, о котором он рассказывал, тоже выбрал не его уравнение, а работу Сени Тумаркина.
— Это еще ничего не значит.
— Как это не значит?
— Профессор мог ошибаться. Или работа Тумаркина для того времени была важнее. Ты плохо относишься к Полякову и заведомо не признаешь его работы.
Львенок замолчал. Он действительно плохо относился к соседу. Он действительно не хотел признавать его гением. Вот преступником — пожалуйста, а гением — ни за что!
Зина смущенно посмотрела на Леонида Матвеевича и спросила у него:
— А разве это так плохо — чувствовать свою исключительность?
Костя тоже с нетерпением ожидал ответа. Неужели если чувствуешь себя исключительным, значит, просто потихоньку развиваешь в себе манию величия?
— Чувство исключительности — это очень хорошо, — уверенно ответил Леонид Матвеевич. — Если бы некоторые люди не чувствовали себя исключительными, уверяю вас, мир не узнал бы открытий Галилея и Ломоносова, не прочитал бы романы Александра Дюма и Жюля Верна. Они чувствовали свою исключительность, знали, что не просто так пришли в этот мир.
— Значит, и этот Поляков — почти что Ломоносов? — насмешливо поинтересовался Львенок. — Или как он там себя назвал — второй Эйнштейн?
— Не совсем. Ошибка Полякова не в том, что он с детства чувствовал свою исключительность, а в том, что он никогда в этом не сомневался. У любого талантливого, а тем более гениального человека есть сомнения. Без них никак нельзя. Без них получается Поляков. Есть, правда, другая крайность — некоторые губят свой талант страшными сомнениями. У них сомнения перевешивают чувство исключительности. А это как самые точные весы — если не будет равновесия, не будет настоящих открытий, не будет талантливых произведений. И еще, вы заметили, он не говорит о том, что хочет просто повести науку вперед? Он говорит о том, что хочет прославиться. В принципе, ведь не наука нужна ему, а слава. С таким подходом великий ученый тоже не получится. Великий ученый стремится к одному — работать, выкладывать все, на что он способен.
— Как Сеня Тумаркин?
— Может быть. Он ошибается, заходит в тупик, но идет и идет, не помышляя о славе. Некоторым заслуженная слава и не достается при жизни. Сколько великих умирали в нищете, осмеянными, непризнанными! Не слава остается от человека. От человека остается дело. Никогда не нужно надеяться на благодарность современников или потомков. Нужно работать.
Теперь уже Леонида Матвеевича с огромным вниманием слушали не только Зина и Костя, но и Львенок, и Ира. Львенок улыбнулся и спросил:
— Вы так горячо об этом говорите, что я подумал — вы тоже в детстве чувствовали себя исключительным.
— Верно, — улыбнулся в ответ Леонид Матвеевич. — Можешь не продолжать. Сам собой напрашивается вопрос: почему же я не стал искусствоведом с мировым именем? Почему я остался обыкновенным служителем музея?
— Я этого не спрашивал, — нахмурился Львенок.
— Хорошо. Я спросил сам себя. И сам себе постараюсь ответить. Да, я мечтал стать искусствоведом. Но моя мечта всегда жила в Петергофе. Я знал, что мое место здесь. И я считаю, что судьба одарила меня даром исключительности. Не потому, что я написал сотни ученых трудов, не потому, что я придумал что-то необыкновенное и новое. Нет. Моя исключительность в том, что я участвовал в восстановлении старого. И не просто в восстановлении, а в возрождении. Из ничего, из разбитого снарядами месива мы сделали великолепный парк. Парк, которому нет в мире аналогов. Парк, которым гордился Петр Первый. Кстати, Петр всегда работал. Всю жизнь. Поэтому и сделал так много.
— Вовсе не поэтому, — возразил Львенок. — Петр был царем. На его месте и я бы Петергоф построил.
— Вот уж неправда! Царей много было. И до Петра, и после. А столько, сколько он, ни один для России не сделал. Дело даже не в Петергофе.
— Он же не один строил Петергоф, — пробурчал Львенок.
— Конечно. Так же, как не я один восстанавливал парк и фонтаны. Такие дела одному не под силу. Должны собраться вместе все, кто верит, что это нужно, кто хочет совершить это. При Петре и после него над Петергофом работали многие замечательные архитекторы, многие художники и скульпторы. А после войны в восстановлении участвовали сотни, нет, даже тысячи человек. Весь наш народ. Я хочу вам рассказать одну историю. О Самсоне, разрывающем пасть льву.
Эта скульптура была установлена уже после смерти Петра Первого и означала победу над шведами.
В годы войны фашисты разрушали каменные скульптуры и переплавляли бронзовые для военных нужд. Бронза, служившая красоте, начинала служить смерти. Есть сведения, что именно так погибли великолепные бронзовые скульптуры Петергофа — "Самсон", "Тритон", "Волхов" и "Нева".
Была надежда, что фашисты вывезли скульптуры, но после войны в германии отыскали только "Нептуна", который благополучно вернулся на прежнее место в Петергоф, а те четыре фигуры так и исчезли.
Исчезнувшие статуи пришлось создавать заново. Это была самая долгая и самая сложная работа.
Ровно в полдень двадцать пятого августа 1946 года пустили фонтаны. Это был огромный праздник, настоящая победа. Но на месте "Самсона" стояла ваза с цветами.
Дело в том, что точную копию создать сложнее, чем сделать совершенно новую скульптуру, ведь нужно изучить и перенять творческий почерк художника-создателя, постичь особенности его мастерства.
"Самсона восстанавливал скульптор Симонов. И начал он с того, что через газету обратился ко всем с просьбой прислать любые, в том числе и любительские, фотографии "Самсона". Откликнулись очень многие.
Я видел эти горы довоенных фотокарточек, на которых улыбаются счастливые парочки, позируют девочки с бантиками и мальчики в матросках. Вместе с фотографиями приходили письма. Были в тех письмах и истории снимков, и судьбы тех улыбающихся людей. Многие из них погибли в войну. Очень многие.
Так вот. Из нескольких сотен снимков для дальнейшей работы по воссозданию Симонов отобрал лишь восемнадцать фотографий. На этих фотографиях "Самсон" был виден с разных сторон, в разных ракурсах.
Симонов определил расстояние от скульптуры до той точки, с которой делались снимки. Почти невероятно, но вычисления были проделаны с математической точностью, до доли сантиметра. Потом фотографии пересняли в одном размере.
Симонов сделал с этих снимков восемнадцать силуэтов "Самсона", а потом перевел силуэты на прозрачную кальку, которая вставлялась в экран. По этим силуэтам и продолжалась работа.
Сами видели, "Самсон" — статуя огромная. Его величина — три метра тридцать сантиметров, а вес — пять тонн.
Потрудились над ней изрядно. Не только Симонов и его помощники по мастерской, но и простые рабочие на заводе, отливавшие "Самсона" в бронзе.
31 августа 1947 года я, да и многие другие, запомнили на всю жизнь. В этот день в парк вернулся "Самсон".
Павел Родионович и я сопровождали скульптуру от завода "Монументскульптура" до самого Петергофа. Это была необычная процессия. По Невскому проспекту очень медленно двигалась огромная платформа, на которой блистала лучами бронзовая фигура.
Рядом с "Самсоном", держась за его ногу, сидел скульптор Симонов. Я редко видел плачущих мужчин, но в тот день Симонов плакал. Плакал от счастья, от того, что работа завершена, что она удалась, что "Самсон" жив.
Тысячи людей плакали вместе с ним. Вдоль всей дороги стояли толпы людей, которые пришли встретить "Самсона". Все они рукоплескали, кричали "Ура!", а военные отдавали честь. Машины, автобусы, троллейбусы останавливались, пропуская "Самсона", некоторые водители медленно следовали за нами, образуя почетный эскорт.
В тот день скульптуру только перевезли в Петергоф. Ее установкой занимались после.
— Ну, вот, Ленчик, — сказал мне Павел Родионович, когда "Самсон" наконец-то занял свое место. — Вот и ожил Большой каскад. Без "Самсона" он будто бы спал все эти годы.
Я кивнул.
— Наша работа заканчивается, — улыбнулся Павел Родионович. — Я рад этому. Петергоф восстановлен. Мы сделали все возможное и даже невозможное, чтобы он жил.
Я тогда понял, что он прав: невозможного было даже больше, чем возможного. Петергоф восстал из пепла. Это не образ, это действительность. И в тот момент я ощутил, что гордость сжала мне грудь. Гордость не за себя, а за нас всех. За то, что нашими усилиями, нашим потом, нашими руками сделано в этом парке все то, что будет приносить людям радость. И еще за то, что не погиб труд тех, далеких, незнакомых, известных и неизвестных людей, которые давным-давно построили Петергоф.
— Тебе уже шестнадцать, — сказал Павел Родионович. — Надо думать о профессии.
Я поднял глаза и очень искренне ответил:
— Моя профессия — Петергоф. Я здесь нужен.
— Ты прав, мой мальчик, — тихо произнес Павел Родионович. — Ты здесь нужен.
Я остался в Петергофе на всю жизнь. Я не написал ученых трудов и не сделал мировых открытий. Я был на своем месте. Я занимался любимым делом, а это тоже немало, не каждому такое счастье достается, можете мне поверить.