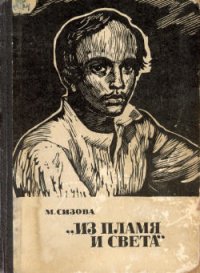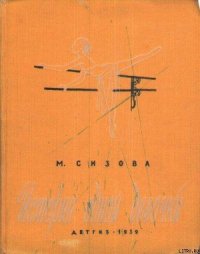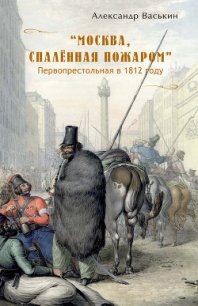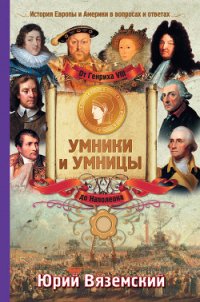«Из пламя и света» - Сизова Магдалина Ивановна (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
Да и можно ли писать теперь на Руси, можно ли свободно излагать свои мысли?!
И, как это часто с ним бывало, незаметно для самого себя он начал думать стихами:
А пока этого нет, удел лучших умов — молчание.
О чем писать?
Он ходил из угла в угол в тоске, не находя ответа. И вдруг остановился и посмотрел уже засиявшими глазами на слабый свет месяца, который пробивался сквозь мутное стекло. Он вспомнил что-то другое… Его лицо словно озарилось внутренним светом, и без бумаги, без карандаша и даже без помощи стенки, на которой можно все-таки писать, он стал повторять одну за другой слагающиеся строки. Потому что все же
Он подошел ближе к мутному окну и снова посмотрел на лунный свет, который вот-вот собирался скрыться за крышами домов. Но душа его уже озарилась другим светом.
Наутро, едва рассвело, он очень обрадовался, найдя листок бумаги, вложенный Белинским в книгу Купера, и к вечеру закончил стихи, надписав сверху заглавие — «Журналист, читатель и писатель».
«Что же поделаешь, — говорил он себе, складывая и убирая листок. — Надо же человеку говорить правду, если этот человек имеет за плечами уже четверть века — двадцать пять, даже двадцать пять с половиной лет! Страшно вымолвить — четверть века!..»
Как все-таки правильно, как прекрасно сказал бессмертный Пушкин: «Ты сам свой высший суд!» Да, да, лишь очень немногое, только самое лучшее из того, что написано в тридцать седьмом и позднее, даст он в готовящийся сборник.
И Шан-Гирей и даже Раевский, бывало, сердились на него за якобы безразличное отношение к своим стихам, которые он подчас дарил тому, кто попросит. Но ведь это не так.
Он мог подарить кому-нибудь одно из лучших своих стихотворений, но, прежде чем оно стало таким, он работал с величайшим упорством, добиваясь предельной простоты и силы, отбрасывая все лишнее, доступное только его глазу и его слуху, как ваятель отбрасывает каждую лишнюю частицу мрамора, нарушающую чистоту формы.
И даже Шан-Гирей, увидав однажды весь перечеркнутый, весь испачканный помарками лист стихотворения «Видение», написанного еще в Середникове, в котором не перечеркнутым только и осталось самое начало, переменил свое мнение. Он с удивлением рассмотрел, что в перечеркнутом конце этого стихотворения все строчки переделаны дважды и над первым, зачеркнутым, вариантом надписано мелкими буквами «второй», а над иными словами — «третий», и заявил, что это просто ювелирная работа.
Нет, работая в любых условиях и очень мало в спокойной обстановке кабинета, он никогда не работал небрежно. Оттачивая и отделывая стихи, совершенствуя рифмы, он всегда старался достигнуть живой яркости образов и картин — и уж потом действительно беспечно и бескорыстно дарил свои создания тому, кто попросит.
Но все-таки не все, далеко не все… Многие из своих стихов он никому не дарил и не давал в печать. Слишком ясно, слишком очевидно были они его жизнью. Их первые строчки звучали чаще всего как начало беседы с самим собою, со своей совестью, со своим другом, со своим сердцем.
«Не смейся над моей пророческой тоскою…», «Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню…», «Слышу ли голос твой…» — нет, не все, конечно, не все из таких стихов можно дать в печать!..
ГЛАВА 32
Белинский торопился к Панаеву. Еще не успев снять пальто, он закричал хозяину из передней:
— Я провел с ним три часа! Теперь я все понимаю, все!..
— С кем вы провели три часа? Что вы поняли? — спросил Панаев, вставая гостю навстречу.
— Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство! Какой у него тонкий и неоспоримый вкус изящного! И какая простота, какое чувство прекрасного! И глубокая, скрытая от всех душа. О, это будет русский поэт с Ивана Великого!
— Вы говорите о Лермонтове?
— Да, о нем! Я был у него на гауптвахте. Он изумителен!
Белинский долго взволнованно ходил по комнате и рассказывал Панаеву о всех подробностях встречи.
Когда он кончил, Панаев спросил его:
— Лермонтов не говорил вам, когда надеется оттуда выйти?
— Он не успел мне об этом точно сказать, но он, как и я, уверен, что на днях получит полную свободу и прочитает нам все то, что написал на стенах своей камеры.
— Где? — переспросил Панаев.
— На стенах своей камеры, — печально повторил Белинский.
— Боже мой, боже мой, узнаю нашего гусара! — воскликнул Панаев, поднимая руки к небу, точно призывая его в свидетели.
Но и Белинский и сам Лермонтов ошиблись. Прошло еще много дней, прежде чем он простился со своей камерой. Все продолжались допросы и письменные показания. Лермонтов сообщил, что выстрелил в воздух. Узнав об этом, де Барант заявил, что по выходе Лермонтова из-под ареста он «накажет» его «за хвастовство».
Лермонтов вызвал француза на гауптвахту и спокойно ему сообщил о своей готовности тотчас по освобождении снова стать к барьеру, после чего француз изъявил свое полное удовлетворение поведением русского офицера и от второго поединка отказался.
Но Лермонтова обвинили в новом вызове де Баранту, сделанном тайно.
И после этого был над ним суд.
И наконец, пораженный пристрастием, с которым велось все дело, и теми размерами, которые придали этому происшествию, оскорбленный заискиванием начальства перед французской аристократией и несправедливостью к нему, офицеру, защищавшему честь русского военного, он узнал свой приговор: он переводился в Тенгинский полк и получал несколько дней в свое распоряжение, дабы проститься с родными и друзьями.
Он узнал, что определение генерал-аудитора о том, чтобы «выдержать» его «в крепости на гауптвахте» три месяца, отменено по высочайшему повелению: царь приказал отменить трехмесячный арест и отправить его теперь же в пехотный Тенгинский полк. В особый полк…
Когда он вышел из своей камеры на Литейный, он увидал, что наступила уже окончательная весна, что с улиц сошел снег и воробьи восторженно радуются солнцу и воде.
Был апрель 1840 года.