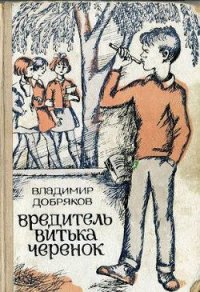Рыжий - Боровский Федор Моисеевич (читать книги полные .txt) 📗
Но если так, то тем более дорог для него Дзагли и тем нужнее помирить их с Рыжим.
Имя новому жителю придумал брат. Правда, он называл его иначе, он назвал его Мамадзагли, но «мамадзагли» — это ругательство, и довольно оскорбительное; называть таким именем симпатичного песика даже мне казалось неприличным. Мы сократили имя и стали звать его Дзагли, поскольку он и был дзагли, то есть — собака. Однако брат, устойчивый в привязанностях и антипатиях, долго держался своего, хотя и случалось ему за это получать от Витьки по шее. Но время и веселый дружелюбный характер собаки умерили в конце концов его неприязнь, и он примирился. Как, впрочем, и Рыжий.
Все же еще одна стычка у них с Дзагли произошла. Она случилась в тот же день и была не очень серьезной. Полдня Рыжий вел себя дома спокойно. Брат говорил, что он не просился на улицу, долго спал, потом забрался на подоконник и ловил мух. Но когда я вернулся из школы, он сел перед дверьми и стал чуть слышно мяукать, широко разевая пасть. Отогнать его от двери было невозможно, он смотрел на нас с требовательным недоумением и не понимал, почему мы его не выпускаем, почему закрыта дверь, хотя погода на дворе стоит прекрасная. То ли его взбодрило мое появление, то ли проголодался и понадобилось идти на охоту, то ли по нужде приспичило. Но на улице бегал Дзагли, а я все еще не решил, как быть. Дзагли поразительно быстро освоился на новом месте и с первой же минуты вел себя как старожил. Его нисколечко не мучили воспоминания о прежних хозяевах, словно их и не было, да, возможно, и в самом деле не было. Он обегал весь двор, обнюхал все углы и везде отметился; изучил обширный подвал под нашим домом, потом растянулся на террасе и стучал весело обрубком хвоста, когда кто-нибудь проходил мимо. Потом убежал за пакгауз и принялся там шумно скакать в лопухах. Я следил за ним в окно и в этот момент окончательно решился выпустить Рыжего.
Я надеялся, что он успеет уйти, пока Дзагли нет поблизости, а вечером я его встречу. В конце концов, пускай привыкают друг к другу. Сначала к запаху, а потом и подружатся. Но Рыжий, к моему удивлению, со двора не пошел. Он походил по террасе принюхиваясь и несколько раз недовольно фыркнул, потом преспокойно уселся на краю, на обычном своем месте неподалеку от угла, подобрал под себя лапки и задремал. Вот ведь чудо-юдо! Я следил за ним с опаской и прислушивался к возне Дзагли в лопухах. Вышел брат, сел рядом со мной и тоже стал наблюдать за Рыжим. Нет, Рыжий определенно не боялся. Он просто сидел и дремал, спокойный, невозмутимый. Это мы с братом переживали, а ему хоть бы что. Когда собака вынырнула из лопухов и направилась в нашу сторону, он даже ухом не повел. Я следил за фокстерьером краем глаза и не сразу обратил внимание, как гордо он шествует, как величественно выступает. Брат заметил:
— Смотри, смотри…
Я посмотрел. Собака шла к нам, таща в зубах крысу. Ого, что это было за шествие! Я вдруг вспомнил Рыжего, который тоже когда-то поймал свою первую крысу. Это было давно, в незапамятные времена, но глядя сейчас на этого — ну, как его назвать, не собакой же! — я словно видел и прошлогоднего Рыжего с крысой в зубах, и самого себя еще до войны с двумя дохлыми пескарями на кукане, и длинную вереницу поименованных и безымянных героев, впервые одержавших победу. Шествие остановилось у самых наших ног, и крыса была торжественно уложена почти на то же самое место, куда клал своих крыс Рыжий. И теперь, как когда-то Рыжий, этот чертенок смотрел на нас гордым императорским взглядом и ждал похвалы. Я бы, ей-же-ей, спустился и погладил его, если бы не боялся, что он кинется мимо меня по лестнице на Рыжего, а я не успею помешать. Нет уж, подождем.
Он таки Рыжего и увидел — то ли тот пошевелился, то ли запах почуял. Вдруг взвился, издал утробный угрожающий рык и мощно рванулся к коту. Но не по лестнице, как я боялся, а по земле. В два прыжка очутился под углом террасы, где Рыжий нежился на солнышке, и застыл изваянием, подняв голову и хвост. Только в горле его за слегка оскаленными зубами негромко и грозно клокотало. Но Рыжий вызова не принял. Он, правда, дремать перестал, выгнул шею и внимательно смотрел на собаку с высоты террасы, но и только. Ни вздыбленной шерсти, ни прижатых ушей, ни змеиного шипения. Видимо, он считал себя в безопасности. Я был с ним согласен, но брат вскочил и замахал руками.
— Эй, ты! Вот я тебе покажу, шен мамадзагли!
Тот перестал урчать, глянул на нас искоса и, не поняв братовой жестикуляции, подбежал и завилял хвостом. Мне стало смешно.
— Не бойся, — сказал я брату. — Куда ему до Рыжего.
— Это я боюсь? — возмутился брат. — Пусть он только Рыжего тронет, я ему последний хвост оборву. Мамадзагли!
— Не мамадзагли, а просто дзагли.
— Нет, мамадзагли! Вот так его теперь и звать будут — Мамадзагли.
— Лучше Дзагли, — сказал я. — А то смотри, Витька тебе самому хвост оторвет, и я защищать не буду. Симпатичный же песик.
— Изменник! — возопил брат.
— Да ты посмотри, — пытался я его усмирить. — Они друг на друга ноль внимания.
А они и в самом деле — ноль. Рыжий уже снова дремал, новокрещеный Дзагли вилял хвостом и, вывалив язык, смотрел на нас. Потом вдруг звонко гавкнул, словно призывая нас помириться, и запрыгал из стороны в сторону, болтая ушами.
— Видишь? — сказал я брату, наклонился и прямо с террасы погладил собаку по голове; в конце концов, крыса стоила похвалы, да и явное дружелюбие и приветливость собаки успокоили меня. Я как-то сразу перестал бояться за Рыжего.
Но брат не смирился.
— Все равно мамадзагли! Пусть он только Рыжего тронет, я и ему и Витьке все конопухи выведу.
— Да не тронет он, — сказал я лениво. Мне что-то не хотелось ссориться, хотя и можно было — вот ведь упрямец. Но уж очень неуместно показалось сейчас, когда даже кот с собакой помирились.
Зураб Константинович Эристави был человек древней фамилии. Он происходил из Кахети, и неизвестно, что заставило его перебраться в Имерети на постоянное жительство. Даже дед Ларион этого не знал. Дед говорил, что Зураб Константинович приехал раньше, что он нелюдимый, замкнутый человек, что у него своя жизнь и свои дела, что на наш двор он смотрит свысока в буквальном и переносном смысле и что он, может быть, княжеского рода, но уж тут — все одна сплошная тайна, ибо сам Зураб Константинович никогда и никому этого не скажет, разве что перед смертью, а друзей или родственников у него в городе нет.
— Кто знает?.. — говорил дед Ларион. — Кто знает?..
То была мудрость старого, видавшего виды и уже успокоившегося человека. Действительно — кто знает? Там была своя жизнь и своя судьба, отгороженные от нас просторным садом и горой, и если бы не этот сад, то мы даже и не подозревали бы друг о друге.
Но сад был, и был наверху просторный дом на кирпичных сваях. Они жили в этом доме вдвоем с дочерью, редкой красавицей, девушкой лет двадцати. Даже удивительно было, что у него родилась такая дочь. Сам-то он был плотный, среднего роста человек с большеносым неприветливым лицом. Какая уж там красота. Говорил он всегда мало, веско и назидательно, смотрел на нас, приподняв брови, словно удивлялся, как это нас еще земля носит. Чем мы ему представлялись, я сказать не могу, но уж во всяком случае не ровней, а может быть, и не людьми. Неприятный был взгляд, удивительно ли, что мы старались сталкиваться с Зурабом Константиновичем как можно реже.
Наверное, дочь была похожа на его покойную жену, уж в любом случае не на него. Видя ее, я всегда вспоминал Тариэла, проливавшего слезы в одиночестве и готового на степу полезть от любви. Если Нестан-Дареджан была хоть немного похожа на Делию, то его вполне можно понять. Вообще, среди грузинок встречаются иногда женщины такой красоты, что при одном взгляде упасть можно. Делия как раз и была из них. Чистые, нежные линии ее лица были просты, но это была благородная простота совершенства; и легкий теплый румянец, и огромные черные продолговатые глаза, сияющие ровным внутренним огнем, — разве найдешь для этого слова. Высокая и стройная, с удивительно легкой походкой, она всегда одета была в длинное, до пят, черное платье, как вдова. Только платка она не носила, и отливающие алмазным блеском черные волосы шалью лежали на плечах. Вероятно, она была еще более одинока, чем ее отец. Никогда у них там, в доме наверху, не раздавались молодые голоса, она не знала ни подруг, ни кавалеров, только молчаливый замкнутый отец. И это в двадцать-то лет, в многолюдном городе. Иногда она пела вечерами, аккомпанируя себе на пандури, ее сильное бархатное контральто плыло в вечернем теплом сумраке среди шороха листвы, среди замирающих голосов городской жизни, между небом и землей. Мы сидели и слушали, все население нашего дворика: и сестры Датунашвили, и сыновья Дарахвелидзе, и лейтенант Корнилов с женой, и мы с братом, и Витька с сестрами. Даже младенцы Корниловы переставали капризничать, даже Дзагли переставал бегать и вилять хвостом. Только Рыжий оставался равнодушным, если ему случалось бывать дома. А впрочем, у него не разберешь. Сидит, дремлет, поводя иногда ухом или подергивая усами, — поди узнай, слушает он или нет.