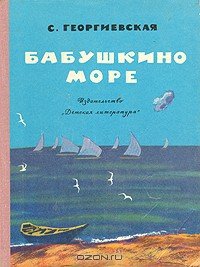Серебряное слово. Тарасик - Георгиевская Сусанна Михайловна (книги онлайн читать бесплатно txt) 📗
Как тут пахнет сладко. Смолой, кожей, клеем, лаком. Подшкиперская — морская кладовка.
— Зд?рово! — говорит Саша. — Я же сказал, что все у тебя получится. Гляди: нормально. Кранц как кранц. Одолела. А ты говоришь!..
«Откуда он знает, что мне надо именно это услышать! — думает мама Тарасика. — Такой молодой, а все понимает».
Распахивается дверь подшкиперской. Чуть раскачиваясь, по-моряцки, к маме подходит матрос Королев.
— Извиняюсь, Соня, можно вас на минутку?
— Да, — отвечает она.
— Если вы не вмешаетесь — он запьет, — говорит Королев шепотом. — Вы одна власть имеете… Убедительно просим — вмешайтесь!
Не ответив ни слова, мама отворачивается и подходит к стажеру Саше. Солнце, видно, зашло за облако. Больше оно не играет на маминых пальцах. Что-то сдавливает ей горло — не слезы, не огорченье, а злость.
Так начался этот день. А ночью…
Мамина голова со всего размаху ударилась о стенку каюты. Ее подбросило. Она перекатилась на другую сторону койки и открыла глаза.
Вздохнув, она протянула вперед руки и попробовала подпереть стенку ладонями. Но стена — как будто бы это было во сне, а не на самом деле — мигнула ей из темноты светлым отражением морской зыби и закачалась из стороны в сторону.
«Что случилось? — подумала мама. — Отчего я лежу вот на этой койке?.. Где я?»
На полу валялась записка — после ужина ее потихоньку сунул маме радист.
«Мы считаем, Соня, что Вы могли бы овеять нашего товарища большей чуткостью. Сами знаете, о ком идет речь».
«Хватит. Довольно! — раздеваясь, чтобы лечь спать, решила мама. — Я им в стенгазету вклею эту записку! Пойду к стармеху… Оденусь и ночью, сейчас, пойду…»
И вот записка валялась теперь на полу, у маминой койки. Мама и думать о ней забыла. Ей было не до радистов. Не до записок.
…Вокруг было пусто. Ушли куда-то дневальная и уборщица, и каюта была похожа на закрытую, раскачивающуюся коробку, в которой сидел жук. (Жуком была мама).
«Зажмуриться, уснуть — и пройдет!» — подумала она.
И крепко-крепко зажмурилась. Но койку качало, и не уходила тоска. Она была такая большая, как будто бы мама осталась одна-одинешенька на всем свете. Эта тоска называлась качкой.
«Что со мной?» — думала мама, хотя хорошо понимала, что она в море, на танкере, что на дворе — ночь и танкер качает.
«Что случилось?! Где я?»
Но вместо ответа из ее крепко зажмуренных век от тоски и от качки медленно выплыла старенькая дорожка. (Ее подарил им дедушка Искра). Теперь дорожка лежала в коридоре их новой квартиры, мама успела совсем о ней позабыть. И вдруг ни с того ни с сего ей привиделись проплешины между знакомых красных ворсинок, исшарканных калошами.
Уплыла дорожка. Маму опять качнуло. О крепко задраенный иллюминатор бились изо всех сил волны. Звенело в ушах. Маме казалось, что она куда-то летит. А над ее головой — звезды: кастрюля Большой Медведицы.
«Это я!» — приподнявшись на койке, сказала мама Большой Медведице.
Но знакомая с детства точечная кастрюля продолжала спокойно и молча светиться всеми своими звездами.
«Не могу я так! — сказала она Медведице. — Почему ты молчишь?»
«Ничего не поделаешь, — печально ответила ей кастрюля. — Мы далекие, молчаливые. Ведь мы — планеты. Мы — мироздание!»
С откидного столика медленно (цепляясь дном о скатерть) сползала кружка. От страха и удивления кружка раззявила свой круглый большой алюминиевый рот.
«Ой-ой! Не хочу! Дзинь-дзинь-дзинь! Чего же это?» — как будто бы причитала она. И вдруг затихла и опрокинулась, уронила ложку. Раз! — и она полетела на пол.
Коридор, примыкавший к каюте, раскачивался так сильно, как будто бы он был вовсе не коридором, а лодкой на чертовых горах в московском парке культуры и отдыха.
«Где я? Кто я? А может, я попросту отравилась в танке?!» — подумала мама.
Она крепко, изо всей силы стискивала щеки ладонями, ударялась плечами то об одну, то о другую раскачивающиеся стены.
«А почему меня ноги не держат? Я, наверно, с ума сошла?! Надо вспомнить, сейчас же попробовать вспомнить все по порядку: боцман меня тащил на канате. А потом я упала на палубу. Он меня тащил. Меня! Я!.. Я!.. Хорошо. А кто же такое «Я»?
И вдруг сквозь бред и сильную тоску качки мама услышала, будто спросонок, едва различимые, далекие бегущие шаги.
«Наверное, что-то случилось с танкером! — догадалась она. — Может, шторм? Но ведь я же хотела, чтобы был шторм! Я даже дразнила нашего боцмана: «Скажите-ка, боцман, а я дождусь наконец штормяги?» А почему я тут, как в закрытой коробке?.. Куда подевались люди? Где боцман?!»
— Боцма-а-ан!..
«А вдруг я осталась на танкере совсем одна?»
— Това-а-арищи!..
Она крикнула это с такой детской силой страха и горя, что сама удивилась звуку своего дрожащего голоса.
«Я должна сейчас же выйти на палубу! — стискивая зачем-то ладонями щеки, приказала она себе. — На палубу!..»
— Лю-ди-и-и!
— Люди-и-и!.. Товарищи-и-и!.. — закричала мама. И, преодолевая дурноту, слепо нашарила ступеньки трапа ослабевшими тряпичными ногами.
Вот они — двери, которые ведут вверх.
Навалившись на них всей тяжестью своей, мама принялась их толкать от себя. Но двери не хотели поддаться и выпустить ее. (Может, с той стороны их держал ветер и он был сильнее мамы?)
Танкер качает. Мама срывается с трапа, падает и больно зашибает голову о ступеньку. Она вцепляется пальцами в лежащую на полу дорожку. Но дорожка вырывается из ее рук. Маму перекатывает из стороны в сторону. Ее подкидывает, как щепку.
И вдруг качка стала тишать.
«Идем ко дну», — догадалась мама.
И коротко, ярко, как молния, сверкнул перед ней один час ее жизни. Один-единственный. Почему именно он? Кто знает.
Она ждала своего Богдана под большими часами на площади. Так долго ждала, что закоченели ноги. На улице продавали первые букетики фиалок. Поискав у себя в кармане, она нашарила рубль пятьдесят копеек, подумала и, вздохнув, купила букетик. Долго держала она букетик в руке. Пристально вглядывалась в лица людей, которые выходили из метро. Измялись стебли в ее горячей ладони. От них побежал сок и запахло травой. А мама все стояла, переступая с ноги на ногу, и уже забыла, чего она ждет, и уже совсем перестала надеяться.
Ничего! Сейчас она вернется к себе в общежитие, напьется чаю и ляжет спать.
И она поехала домой: вошла в метро, и механическая лестница понесла ее вниз, к поездам.
И вдруг среди людского потока, который катил ей навстречу, мама увидела его. Он был в меховой шапке.
Она сказала:
— Богдан! — и заметалась на ступеньке (как будто можно было перелететь через перила).
— Ты с ума сошла! — закричали на нее люди. — Ты что, с цепи сорвалась?! Зачем ты толкаешься?!
— Соня!
— Богдан!
И лестница понесла их в разные стороны. Спустившись вниз, мама кинулась к той лестнице, которая ехала наверх.
— Соня!..
— Богда-а-ан!.. Богда-а-ан!
— Соня-а!
И опять их развели механические лестницы. Приехав наверх, мама принялась ждать. Она ждала долго. Но, должно быть, он ждал ее внизу.
И снова, во время полета лестниц, их голоса встретились.
— Жди! — закричал он очень сердито. (Как будто она была виновата в том, что лестницы разъезжались в разные стороны.)
— Жду!
…И она ждала. Вертелась в водовороте людей, которые спешили к поездам и толкали ее до тех пор, пока ее выдернула из этого потока сердитая и сильная рука.
— Черт знает что! — сказал он ей.
И, крепко держась друг за дружку, они покатили вверх, на общей лестнице. Он целовал ее глаза, щеки, гладил плечи, как будто навечно ее потерял и снова нашел. Встречная лестница веселилась. Пусть! Соня и Богдан крепко держались за руки.
Он был на всем свете самым главным для нее человеком. Ее семьей. Ее братом и сыном, потому что тогда еще не родился на свет Тарасик.
— Богдан, отчего ты в меховой шапке? — спросила она. — На улице жарко… Отчего ты в меховой шапке? — и протянула вперед руку. От ее руки еще пахло раздавленными травинками.