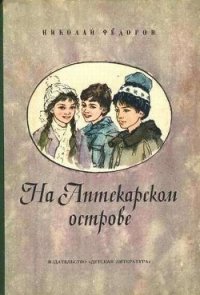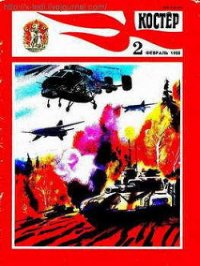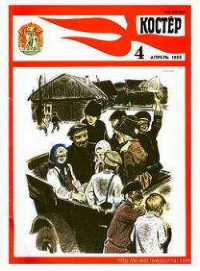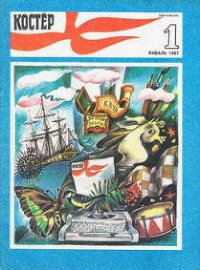Тучков мост - Федоров Николай Тимонович (книги без сокращений txt) 📗
— А что это у вас тут за постамент стоит? — спросил Петя. — То есть пьедестал.
— Стоит, — согласился старик. — Давно уже. Может, с войны, а может, и раньше. Я тут, почитай, двадцать лет работаю, а камень так и стоит, мохом оброс.
— А кто такой Столыпин? — спросил я.
— Министр был такой до революции.
— Все ясно, — сказал Петя. — Царский сатрап.
— Почему сатрап? Говорят, умный был мужик, деловой. Сам царь его побаивался. Шлепнули его.
— А кто шлепнул? Царь?
— Да нет, не царь. Террористы вроде какие. Эсеры, что ли.
— Значит, он за нас был? За революцию?
— Эк, у вас все просто: если не сатрап, то непременно революционер: «Ура! Долой самодержавие!» Нет, сыночки, революционером Столыпин не был. Но и худого России тоже не желал. А революции-то он как раз не хотел. В общем, сложный был министр.
— А где же сам памятник? — спросил я. — Интересно бы посмотреть.
— Чего не знаю, того не знаю. Может, в революцию спихнули, а может, вообще не успели сделать. Столыпина, стало быть, в одиннадцатом годе убили, а в четырнадцатом война началась, первая мировая. Тут уж не до памятников было… Н-да. Значит, нет у вас спичек. Пойду рефлектор включать, бороду палить.
Вечером за ужином я спросил:
— Папа, ты знаешь, кто такой был Столыпин?
— Столыпин? Конечно, знаю. При Николае Втором — министр внутренних дел, а потом одновременно и председатель совета министров.
— А кто его убил?
— О-о-о, да ты тоже кое-что знаешь. Так вот, убил его некий Богров. Он был агентом царской охранки и в то же время социал-революционером — «эсером». Проще говоря, провокатор. А почему ты вдруг об этом заговорил?
— Мы с Петей на свалке постамент нашли от памятника. А на нем написано: «Столыпин».
— Вот как? Интересно. А что же, там только постамент?
— Да, каменный такой.
— Надо же. Я не знал о памятнике Столыпину в Петербурге. Выходит, был. Покажешь мне как-нибудь?
Просто Боря и еще кое-что
Я в машинах неплохо разбираюсь. Во-первых, мы журнал «За рулем» выписываем, во-вторых, дома у нас есть несколько книг по истории автомобилей, ну и папа, конечно, много рассказывает, мы с ним вместе «Буран» чиним. Так что, когда к нашему подъезду подкатил огромный иностранный автомобиль-пикап голубого цвета, я сразу определил: «вольво».
Номер на подъехавшей машине был наш, но это меня нисколько не удивило. Сейчас в городе полно иностранных машин с нашими номерами. Удивило меня другое — из открывшейся дверцы вышла моя мама. Она тоже сразу меня увидела, поманила пальцем, а потом снова нагнулась в салон и что-то сказала водителю.
Из машины вылез коренастый, лысеющий мужчина с круглым лицом, в очках с большими стеклами в тонкой металлической оправе.
— Вот посмотри. Боря, на это чудо в перьях, — сказала мама, кладя мне руку на плечо.
Мужчина зацокал языком, как китайский болванчик, замотал головой из стороны в сторону и даже, кажется, собрался потрогать меня толстыми, волосатыми пальцами.
— Ну везет, везет же тебе, Семенова, — сказал он, называя мамину девичью фамилию. — Такой мужик, такой большой мужик вымахал. Орел, орел! И всегда-то тебе везло. Я, бывало, на экзаменах со шпаргалкой три балла в поту зарабатываю, а она приходит гордая и бледная — и вытаскивает самый легкий первый билет.
— На этом мое везение и закончилось, — сказала мама и, подтолкнув меня, добавила: — Андрей, познакомься с дядей Борей.
— Ну здравствуй, здравствуй, наследник, — сказал мужчина и ухватил меня сразу за две руки.
— Здрасьте, — сказал я. — А вы мамин брат?
— Брат? Почему брат? Ты мне льстишь. Аня, он мне льстит. Неужели я старый, лысый мужик с длинным носом похож на твою молодую, красивую маму.
— Но она же сказала, что вы дядя.
— Андрей, прекрати свои дурацкие шутки!
— Стоп, стоп, стоп! Он прав. Ребенок прав. Что это еще за дяди Бори, тети Маши. Меня зовут… А знаешь что, зови меня просто Боря. Терпеть не могу, когда меня по имени-отчеству называют. Сразу кажется, что мне сто лет. Да, да, да, просто Боря. И можешь даже на ты. Договорились? Ну орел, орел! Такой огромный. Посмотри, Аня, он выше меня ростом! Спортсмен он, наверное, у тебя, спортсмен.
«Сейчас небось спросит, не играю ли я в теннис», — подумал я. И ведь надо же! Как в воду глядел:
— Ты в теннис не играешь? В большой, конечно: матч-бол, Уимблдон, Джимми Конорс…
Я уже хотел сказать какую-нибудь гадость, но мама меня опередила:
— У него любимый вид спорта — с отцом под машиной лежать.
— Это неплохо, это неплохо. Глядишь, к восемнадцати права получит. Купит себе «роллс-ройс». А теннисом займись. Советую. Игра богов.
— И джентльменов, — добавил я.
— Точно! Ну все понимает! В мать, мать пошел… Ну, Анн, мне пора. Страшно рад был тебя встретить.
— Может, все-таки зайдешь? — спросила мама.
— Нет, нет, сегодня никак. Дела. Но зайду непременно. Раз обещал — все, кремень. Ты меня знаешь. Ну-ка, спортсмен, погоди… — Он нырнул в машину и вытащил оттуда пачку американской жевательной резинки «Джуси-фрут». — На, держи. Жевать можно. Пить, курить — ни-ни.
Дома мама, даже не обратив внимания на отсутствие тапок в прихожей, сразу пошла в атаку на папу:
— Представляешь, встретила Борю Фоменко. Мы с ним на одном курсе учились. Иду по Садовой, вдруг останавливается такой роскошный «форд», и из него Фоменко вылезает.
У мамы все роскошные иностранные машины — «форды». Но я не стал ее поправлять. «Форд» так «форд» — наплевать.
— Знаю, знаю, что дальше будет, — сказал папа, — Наверняка твой Фоменко бросил свою контору или какой-нибудь там НИИ и подался в кооператоры.
— Да, подался, и нечего иронизировать. Он реалист, в отличие от некоторых. Я, правда, не поняла, чем он там занимается, но какая разница. Сашок, я с ним говорила о тебе. Он обещал подумать. Он к нам на днях придет.
— Жевачки принесет фирменной, — сказал я. — Будем пузыри надувать.
— Помолчи.
— Правда, папа, почему бы тебе не поторговать шашлыками. Работа на свежем воздухе…
— Я кому сказала замолчи! Неужели, Саша, ты всерьез думаешь, что напишешь какую-то там книгу. Это смешно! Лев Толстой в тридцать девять лет уже «Войну и мир» закончил.
— Продолжим список, — сказал папа. — Байрон написал «Чайльд Гарольда» в двадцать один, Лермонтов «Мцыри» в двадцать пять, а Пушкина в тридцать семь так и вообще убили.
— Амадей Моцарт — подлил я масла в огонь, — в пять лет играл на скрипке. А в девять написал первую оперу. Так что мне тоже не светит.
— Два идиота, — сказала мама и обиженно ушла на кухню. Прямо в туфлях.
— Папа, а ты давно маму знаешь? — спросил я. — Когда вы познакомились?
— Э-э, значит, так. Я учился на третьем курсе университета, а мама десятый класс заканчивала. Вот считай.
— Ну а как дело-то было? На дискотеке там или на пляже?
— Тогда дискотек не было — были танцы. Или просто вечера. Ну а мы познакомились. Да обыкновенно познакомились. Сидел я в гостях у приятеля, пили сухое вино, слушали магнитофон. Тогда «Битлз» еще очень популярны были, хотя они уже и распались. Последний диск у них был «Эбби Роуд» — «Монастырская дорога». Как раз мы его и крутили в тот момент, пытались слова разобрать, перевести… — Папа замолчал, задумался, потом сказал: — Интересно, ты меня сейчас спросил, а я, оказывается, все совершенно точно помню, каждый штрих… И вот мы сидим, а из магнитофона звучит одна песня, «Что-то». Очень красивая у нее мелодия, нежная. Вдруг звонок. Приходит приятель моего приятеля с двумя девушками. Одна из них сразу говорит: «Ну и свинарник же у вас, мальчики: сыр на газете, окурки в блюдце, кружки какие-то допотопные. Вы бы еще из майонезных баночек пили. Неужели в доме нет фужеров?» Ты уже, конечно, догадался, что это и была…
— Моя мама.
— Правильно. А потом мы танцевали, и я стал сразу ей говорить, что она мне очень нравится и что я хочу ее снова увидеть. А она вдруг говорит: «Ты мне все это напиши. В письме». Я удивился, говорю, зачем же писать, мы же только познакомились. Я могу все так, устно сказать. А она: «Нет, напиши. Слова улетают, написанное остается».