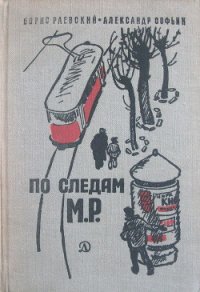Товарищ Богдан (сборник) - Раевский Борис Маркович (электронные книги бесплатно .TXT) 📗
— Старика из двадцать третьей. Ну, того, который…
— Свихнулся? — подсказал надзиратель.
Сиктранзит поморщился. Он не любил такой прямолинейности.
— Старика перевести в госпиталь.
— Слушаюсь!
Надзиратель ушел, а Сиктранзит снова задумался. Зачем он, собственно говоря, держит здесь, в пересыльной, Бабушкина и его товарищей? Правда, партия на Верхоянск еще не подобралась, ну да бог с ней. Прогуляются конвойные лишний раз — не беда. Зато он навсегда избавится от этих смутьянов.
Через два дня из ворот александровской пересыльной тюрьмы вышла этапная партия. Среди других этапников был и Бабушкин. Путь его лежал на Якутск, а оттуда еще дальше — в затерянный в снегах, неведомый Верхоянск.

Самое страшное

Самое страшное в ссылке — тоска. В этой гнилой, затерянной в болотах и снегах дыре тоска наваливается на ссыльного неожиданно. Тяжелая, как могильная плита. Грязно-серая, как верхоянское угрюмо нависшее небо.
И сразу начинает казаться, что все зря. Зря ты живешь на свете. Зря борешься с несокрушимым чугунным идолом — царем. Что всеми ты забыт. Что время остановилось. Что пять лет ссылки никогда не кончатся. И вообще — пошло все к черту.
Человек, захлестнутый тоской, сидит в дымной вонючей юрте, где пол земляной и крыша тоже земляная, сидит у камелька неподвижно, долгими часами не сводя тусклых глаз с огня.
Неделями не выходит из юрты.
Пропади все пропадом! Надоело. Хватит.
От камелька пышет жаром. И все же в углах юрты — иней. Еще бы! Ведь за стеной мороз такой — даже ртуть в термометре на доме стражника и та замерзла.
А тут еще верхоянская полугодовая ночь, которая тянется утомительно, как бессонница, и кажется, нет ей конца. Словно живешь ты в погребе. И тут и умрешь, в густой, непролазной этой тьме.
Самое страшное, что тоска заразительна. Она — как эпидемия. Перекидывается от заболевшего к здоровому и крушит наповал.
И вот уже ссыльные перестают ходить друг к другу. И вспыхивают какие-то мелкие, противные дрязги, ссоры. И одному не хочется видеть осточертевшее лицо соседа. А другому стало невмоготу даже слышать голос недавнего друга-товарища. А третий и вовсе запил. Пьет беспробудно уже вторую неделю.
— Да, — думал Бабушкин. — Скверно…
Он шел по вихляющей между юрт тропинке. Вокруг столько снега, что юрты почти не видны. Только по дымкам да кучам навоза и отличишь юрту от огромных сугробов.
А вокруг — тундра. Голая, без деревца. Вся засыпанная снегом. Ни кустика. Карликовые северные березки, стелющиеся возле самой земли, погребены так глубоко под снегом, будто вовсе и нет их.
Толстой варежкой Бабушкин прикрыл рот. Так и дышал — сквозь варежку. Мороз лютый, градусов пятьдесят. К такому привычка нужна. В первые дни, бывало, вдохнет Бабушкин, — и в грудь сразу словно струя расплавленного свинца. Кажется, насквозь прожигает. А плюнешь на таком морозе — слюна застывает на лету и падает на землю звонкой ледяшкой.
Идет Бабушкин по тропочке. А куда идет? И сам не знает.
Просто так.
«Прогулка, — Бабушкин хмуро усмехнулся. — Прелестная прогулочка!»
И впрямь трудно назвать прогулкой такой вот поход на свирепом холоде. Но не сидеть же безвыходно у огня?!
Шагает Бабушкин, и кажется ему, опять едет он на оленьих нартах. День за днем, день за днем. Говорят, Якутск — на краю света. Но от него до Верхоянска — еще тысяча верст. Тысяча пустынных, промерзших, унылых верст…
И вновь мелькают редкие «станки» да «поварни» — одинокие избы на пути этапа. Окоченевшие на лютом морозе ссыльные вваливались в «станок» и тут же засыпали. А утром конвоиры шашками расталкивали спящих. Пора. В путь.
Сколько же он тут, в ссылке? Бабушкин быстро прикинул — четырнадцать месяцев. Всего. А кажется, четырнадцать лет…
Да, проклятое место.
Идет Бабушкин, а на душе — пасмурно. И перед глазами все стоит гигантский факел. Полыхает, переливается, сверкает. Горит юрта.
Хотя уже несколько месяцев прошло с той поры, а Бабушкину все не забыть.
В той юрте жил ссыльный Фенюков. Жил тихо, как-то в стороне от всех. Молчаливый. И глаза у него — черные, глубокие, как ямы. И какие-то печальные. Такие печальные, что долго смотреть в них ну просто невозможно.
Но не жаловался Фенюков. Жил и жил. Три года прожил. Тихо. Неприметно.
И вдруг однажды ночью проснулись все. Треск, пламя, собачий лай, тревожный рев коров. Горит юрта Фенюкова.
Потом узнали: облил он керосином и себя, и юрту. И ноги сам себе сыромятным ремнем стянул. Крепко-накрепко. Чтоб в последний момент не струсить, не выскочить.
Так и сгорел.
А один из ссыльных потом записку у себя нашел:
«Прощайте, товарищи. Видно, не герой я… Не могу…»
Идет Бабушкин между сугробов. А перед глазами — пылающая юрта. Переливается в ночи, как огромный костер.
«Прощайте, товарищи…»
«Да, недоглядели, — думает Бабушкин. — И моя тут вина…»
Хотя, конечно, не он виноват, а жизнь ссыльная, проклятая.
Идет Бабушкин, хмурится.
Вспоминается ему Хоменчук. Только что был у него Бабушкин. Звал на прогулку.
Илья Гаврилович лежал на каком-то тряпье. Молчал. Лишь головой мотнул. Нет, мол. Не пойду.
Не понравился он Бабушкину.
Интеллигент ведь, умница. Университет окончил. И певун какой! Бывало, ссыльные соберутся, Хоменчук как заведет свои украинские песни — заслушаешься.
А как опустился… Зарос весь. Видно, неделю уже не брился, а то и две. И аккуратную курчавую бородку тоже теперь не узнать. Как метла.
А вокруг… И окурки. И горки пепла. И миска с остатками еды. И какая-то одежда навалом.
А главное — глаза. Безучастные. Тусклые. Словно глядит на тебя и не видит. И вообще — неинтересен ты ему. И не приставай. Скверные глаза.
«Как у Фенюкова», — Бабушкин покачал головой.
Ветер ударил ему в грудь. На миг даже задохнулся. Пришлось повернуться спиной к ветру и так переждать несколько минут.
«Да, надо что-то делать, — подумал Бабушкин, когда перед ним опять возникли тусклые, стеклянные глаза Хоменчука. — Но что?»
На следующий день среди ссыльных только и разговоров было о «пельменном пире».
Каждый ссыльный получил от Бабушкина приглашение. Оно было написано четкими печатными буквами на твердом квадратике картона. И обведено синей рамкой. Из всех цветных карандашей у Бабушкина сохранился только синий.
Утром Бабушкин зашел к Хоменчуку.
Как открыл дверь — в нос сразу шибануло затхлой вонью.
В юрте у якутов под одной крышей — и жилье для людей, и хотон-хлев. Разделяет их лишь тонкая переборка. И потому пронизывает всю юрту острый запах коровьей мочи, навоза. И от этого не спасешься.
Хоменчук по-прежнему лежал. Все такой же небритый. Помятый. И длинные космы спутанных волос наползают на лоб и на уши. Он был прикрыт какой-то старой, облезлой шкурой. Такой облезлой и засаленной, что даже не поймешь — медведь это? Или олень? Или вовсе — кабарга?
Из-под шкуры торчали ноги в торбасах [32].
— Вот, — сказал Бабушкин. — Приглашаем вас, сеньор, на пир! — и протянул картонный квадратик.
«Сеньор», — не вставая, молча, взял квадратик, надел пенсне, прочел и так же молча сунул куда-то в тряпье.
— Насколько я понял, сеньор принимает приглашение?! — воскликнул Бабушкин. — Итак, вставайте!
— А зачем? — вяло протянул Илья Гаврилович. — Ведь пир-то в субботу? А сегодня что?
— Ха, — сказал Бабушкин. — До субботы еще три дня. Но ведь пельмени-то приготовить надо. А слуги у сеньора, да и у меня, все отпущены. Так что придется самим. В общем, организационный пельменный комитет постановил: всю подготовку пира возложить на Бабушкина и Хоменчука. Вставайте же, сеньор!
32
Торбаса — мягкая якутская обувь.