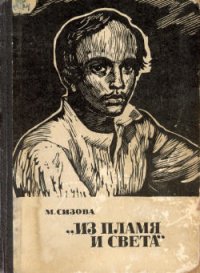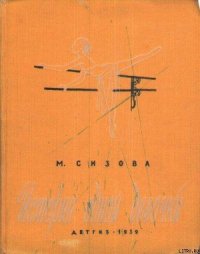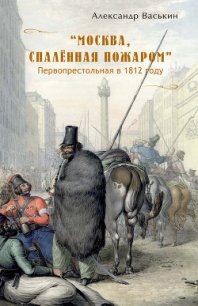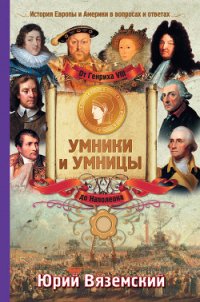«Из пламя и света» - Сизова Магдалина Ивановна (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
Только поздней осенью пришел отзыв на третью, пятиактную, редакцию «Маскарада», которой он дал новое название — «Арбенин». «Арбенин» также был запрещен драматической цензурой. Узнав об этом запрещении, он половину ночи шагал по набережной под дождем и ветром. Подойдя к Медному всаднику, постоял возле него, думая о Пушкине, и, возвращаясь домой, медленно прошел по набережной Мойки мимо дома Волконской, куда этой осенью переехал поэт.
Уже началась зима, когда Святославу Афанасьевичу удалось, наконец, привезти Лермонтова к издателю Краевскому.
Краевский, небольшого роста подтянутый человек с чрезвычайно живыми темными глазами и быстрыми движениями, оказался очень приятным собеседником.
— Очень, очень рад, — приветствовал он Лермонтова, посмотрев на него пытливым взглядом. — Я вашу поэму «Хаджи Абрек» прочел с подлинным удовольствием, знаю кое-что из ваших небольших стихотворений и нахожу их в высокой степени примечательными. Только трудно, на мой взгляд, соединить поэзию с гусарской службой!
— Почему же? — быстро возразил Лермонтов. — Разве не был гусаром Денис Давыдов, чудесный поэт? В гусарской службе я нахожу больше материала для поэзии, нежели в департаменте.
— Может быть, вы и правы, — согласился Краевский. — И я во всяком обличье — гусаром или чиновником — жду вас к себе в редакцию…
Тут же в редакции у Краевского, где он после первого знакомства в начале зимы нередко бывал, до него дошли слухи, что Пушкин переживает тяжелое время, что какая-то катастрофа назревает в его семье и друзья Пушкина в тревоге.
От Краевского же узнал он, что как раз в тот день, когда он, Лермонтов, приехал в Тарханы, Пушкин писал Бенкендорфу о своих литературных планах. «Он должен был сообщить об этом», — добавил Краевский.
И Лермонтову захотелось опять убежать в тишину тархановских снегов. Убежать, чтобы не видеть и не слышать никого и ничего, чтобы остаться наедине с рукописью и с самим собой!
Но об этом нечего было и думать.
ГЛАВА 4
Над Невою дул пронизывающий ветер. На обширных площадях, на прямых, протянувшихся вдаль улицах он дул в лицо, и над всеми крышами, над легкими решетками и величавыми дворцами несся и несся мокрый снег с дождем.
Несмотря на это ненастье, Лермонтов поехал в Александрийский театр узнать подробнее о причинах нового запрещения «Маскарада».
Он был принят с холодной сдержанностью. В дирекции театра были даже удивлены настойчивостью этого странного офицера, который во что бы то ни стало желает заниматься таким не подходящим для военного делом.
— Нет, господин Лермонтов, — решительно сказали ему. — Мы не можем поставить пьесу, где осмеивается высший свет и дамы, принадлежащие к этому свету. Кроме того, публика не любит пьес со столь печальным окончанием. Это никак невозможно. Прошу прощения.
— В Царское! — сказал коротко Лермонтов кучеру Митьке, выйдя на улицу.
Вдоль широкого Невского, по туманной набережной, по улицам и площадям неслись сани. Мокрый снег с дождем частой завесой сеялся в воздухе, и холодный пронзительный сквознячок крутился на широких площадях, бросая пригоршни снежинок прямо в лицо седоку. Но седок не замечал их. Перед ним было опять голубое мартовское небо с полной луной и нежный взгляд таких знакомых, таких дорогих глаз… Ветер бросал в лицо снег с дождем, а губы шептали строчки:
Только Варенька! И больше никто.
В доме на углу Манежной окна освещены. Монго дома.
Лермонтов быстро вошел, и в то же мгновенье его подхватили чьи-то руки, и под громкие возгласы: «Приехал! Маёшка вернулся!» — он взлетел к потолку.
Вскоре уже звенели стаканы и пылала жженка — начиналась та гусарская кутерьма, которая кончается на рассвете и от которой на другой день здорово болит голова.
Она действительно-таки побаливала утром, а так как утро было свободным, Столыпин, заканчивая свой туалет, крикнул из своей спальни на весь дом:
— Тимошка! Готовь коней!
— Ты уезжаешь, Монго?
Лермонтов, вставший раньше Столыпина, сидел в это время у стола и писал.
— Не я, а мы, — ответил Монго. — Ты тоже едешь.
— Куда?!
— Просто проехаться после ночного пиршества.
И Столыпин, проведя в последний раз щеточкой по волосам, вошел к Мишелю.
Через несколько минут, щурясь от яркого солнца, Лермонтов уже легко вскочил в седло, и его Руслан, словно гордясь таким ловким всадником, вылетел за ворота — на дорогу.
Они мчались рядом, стремя в стремя, но на пригорке сбавили ход. Лошади шли отдыхая, и Лермонтов, любуясь погожим днем, закинув голову, смотрел в ясное небо.
— Мы еще толком не успели с тобой побеседовать, Монго. Что нового в Петербурге? О чем говорят?
— О чем говорят? Да больше всего о Пушкине, его жене и Дантесе.
Лермонтов нахмурился.
— Почему о Дантесе?!.
— Да потому, что на балу у князя де Бутера все гости обратили внимание на неумеренные ухаживания Дантеса за женой Пушкина. Этот француз-эмигрант, преданный сторонник Бурбонов, покинул Францию после революции тридцатого года и нашел здесь радушный прием у самого государя, не говоря уже о дамах. А голландский посол — барон Геккерн, отъявленный мерзавец, — этого красавца усыновил. Он действительно красив. И теперь везде говорят о безумной будто бы страсти Жоржа Дантеса к жене Пушкина.
Лермонтов совсем остановил лошадь.
— А что же… жена Пушкина?
— Как говорят, она не совсем безразлична к красоте Дантеса.
— Этого не может быть! — Голос Лермонтова стал жестким. — Та, которую любит Пушкин, не может быть ничтожеством. Она самая прекрасная из всех виденных мною женщин, и я уверен, что ее душа достойна ее красоты, потому что ее любит Пушкин!..
— И царь, — неспешно добавил Столыпин и потянул поводья.
Тогда Лермонтов слегка тронул Руслана, и конь, угадав его желание, взмахнул гривой и понесся вдоль потемневшей под солнцем дороги.
Пригнувшись к седлу, Лермонтов несся ветру навстречу, а в памяти его вставало женское лицо ослепительной красоты, и в ушах звучал неповторимый голос, который тихо говорил: «Пора в деревню, в тишину!..»
Неужели же не исполнилось такое скромное и простое, такое человеческое желание?!
И неужели этому прекраснейшему из людей и великому поэту суждено, как и ему, быть обманутым любовью?!.
ГЛАВА 5
Лермонтов никогда не искал славы. Но однажды он услыхал похвалу, от которой сердце его забилось сильнее, и радость, как взошедшее солнце, осветила все кругом.
Эту похвалу — похвалу Пушкина! — передал ему Краевский.
«Этот мальчик далеко пойдет», — сказал великий поэт Краевскому, прочитав «Хаджи Абрека», до сей поры не попадавшего ему в руки.
— Вот видишь, Лермонтов, какого о тебе мнения Александр Сергеевич. А ты что делаешь?
— Что я делаю? — с виноватой улыбкой и сияющими радостью глазами спросил Лермонтов.
— Ты свои стихи, заделавшись гусаром, стал писать на ящиках письменного стола! Мне ведь Святослав Афанасьевич все про тебя рассказал. Где твои прежние аккуратные тетради? Где?
— У меня в столе.
— Так какого же черта царапаешь ты свои чудные стихи где попало? Я вот скоро все соберу… А тебя, братец мой, надо бы…
Но он не успел досказать. Лермонтов бросился на него, свалив по дороге стакан с очинёнными перьями и две пачки бумаг, и обнял его так бурно, что привел в полнейший беспорядок костюм редактора.
А когда, освободившись из его объятий, Краевский, охая, перевязывал свой галстук и поправлял воротник, счастливый Лермонтов уже стремительно спускался с лестницы его дома.
Лермонтов сидел с ногами на диване, изредка поглаживая голову своего любимого пса Рекса, который устроился подле него, рассказывал Раевскому события прошедшего дня. Подошел Ваня с письмом на подносике.