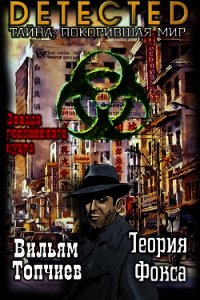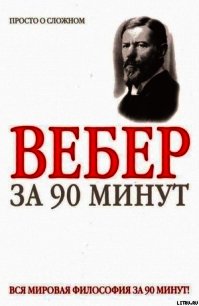Когда приходит ответ - Вебер Юрий Германович (читать книги полные TXT) 📗
Он помнил все время о возможных вопросах возможных критиков и всяких простаков. А реле с добавочными обмотками, как с ними будет? А реле с действием на выдержку времени? А реле вентильного типа, что пропускают сигналы только в определенном направлении? Реле амплитудные, что срабатывают только от тока определенного напряжения или определенной величины? Реле… Длиннейшая гамма всевозможных типов реле, из которых разыгрывают современные проектировщики чудеса многоголосого автоматического управления. И все их постепенно Мартьянов ввел в общее русло алгебры логики. Целый обширный раздел вырастал в его диссертации: «О преобразовании схем с дополнительными элементами или зависимостями». Стучи опять, машинка, стучи!
Алгебра логики, алгебра логики… — щедро рассыпал он по диссертации, не желая прикрываться никакой защитной терминологией и заранее улыбаясь тому, что могут подумать некоторые, особо настроенные умы.
И все же после одной тяжелой паузы, когда он сильно задумался над машинкой, пришлось ему отстукать двумя пальцами особое примечание. Он не собирается придавать нулю и единице, как иные логики-символисты, сверхъестественное значение. Единица — «весь мир божий» и тому подобное. Ему, Мартьянову, они нужны, эти нулики и единицы, лишь как подсобное средство. Лишь для алгебраического выражения того, что реально происходит в контактной цепи. Цепь замкнута и цепь разомкнута — и ничего больше. Не надо ему, чтобы к его логике реле припутывали всякое. Вот для таких любителей специальное примечание. Смотри рукопись, смотри страницу сто восемнадцать.
Идем дальше.
Но иногда идти дальше не удавалось. Машинка замирала в мучительном ожидании. И он нервно постукивал пальцами — не по клавишам, а по борту стола. (Говорят, подгоняет мысль.) Он видел: в его теоретических построениях чего-то не хватает, но чего именно?.. Мысль прыгала беспорядочно. Не складывались фразы, не нащупывались нужные определения. О, кто только придумал эту муку открытий!
Он вскакивал, накрыв машинку чехлом, и предавался вдруг неожиданно бурной деятельности. Появлялся на площадке для тенниса, разбитой среди смолистых запахов сосняка, и, нарушая установившийся здесь корректный стиль игры, яростно гонялся за каждым мячом, стараясь ударить не так, чтобы точно, но возможно сильнее. Или вечером вдруг оказывался в большой гостиной для танцев, стремительно перебирал ногами, разрезая толпу, будто торопясь обязательно всех обогнать… И вновь так же неожиданно исчезал. Вы посмотрите только на этого развлекающегося кандидата на докторскую! Но не спешите поверить в его веселое настроение. Не пожелай брату своему такого веселья!
А чаще всего в минуты вынужденных перерывов натягивал он старые спортивные штаны, резиновые тапочки и в этаком далеко не академическом виде выскакивал из флигеля и пускался в ходьбу. Нет, не по утрамбованным дорожкам, по которым предпочитали кружить ученые пары, утомленные своим высшим образованием. А прямиком через лес, через поляны и овраги — туда, где почти не встретишь ни души.
Разве уж он такой любитель природы? Как знать, он и сам, пожалуй, не смог бы на это ответить. Время от времени ему надо было туда, непременно туда — в зелень или в снежный простор. Но он никогда не говорил: «Ах, как красиво!» Или: «Здесь чудесно!» Он говорил только: «Сегодня я прошел столько-то километров» — и расплывался от удовольствия. Это и называлось у него «проветриться».
Думал ли он при этом о своих делах, о диссертации, о том, на чем запнулся там, за машинкой? Возможно, и не думал, а просто стремился побыстрее вперед. Вперед, вперед, чувствуя под ногами землю! Но после таких пробежек вперегонки с собственными мыслями он садился снова за клавиатуру и стукал, стукал, как самый неутомимый дятел.
В возне с диссертацией прояснялось ему все больше и больше: его сложившаяся уже как-то методика, его алгебраические и табличные находки и находки других исследователей-одиночек — все это только еще начало. Начало будущей, большой, подлинно теоретической науки. И неизвестно еще, какие направления вдруг в ней прорежутся и какие новые открытия за этим последуют. Ясно только, что это не дело одного ума, пусть даже самого догадливого. Здесь бы и двинуть широким фронтом, усилиями многих! Но, увы, он, Мартьянов, бьется пока что лишь на своем собственном клочке. А его диссертация станет… Ну, чем станет его диссертация, мы еще посмотрим.
Все-таки на ночь они обменивались с соседом кое-какими рассуждениями. Лампы погашены от комаров, в открытое окно врывается вместе с луной резкая сыроватая свежесть, от которой хочется повыше натянуть одеяло. И каждый, лежа в темноте, произносит что-то в потолок — то ли для другого, то ли для самого себя. Мартьянов, конечно, говорит что-нибудь на тему о реле, упоминает со смешком, как встречают новую теорию.
— А я-то думал, — произносит сосед, — что у вас в точных науках проще, что все можно доказать. Не то, что у нас в биологии, — и тяжело вздыхает.
— Слышали, читаем… — отзывается сонно Мартьянов.
— Не правда ли, было бы куда полезнее, если бы били друг друга научными фактами. А не то, что… Общие слова, вымыслы…
— Не так-то просто добывать научные факты. Не всякий знает, что с ними делать, с этими фактами.
— А у нас с фактами особенно трудно. Сколько ждать-то их!.. — глухо звучит голос соседа.
Он еще что-то бурчит про свою биологию. Мартьянов не отвечает. Повернувшись, он уже спит. Завтра чуть свет опять за машинку.
2
Диссертация подходила к концу, и Мартьянов снова просиживал в лаборатории, когда ему позвонил инженер Малевич:
— Я должен вас обязательно видеть. Возможно скорее… — Голос его срывался.
Через полчаса он возник в дверях, забыв второпях спрятать в карман бланк пропуска и держа его прямо в руке.
— Вы понимаете… — начал он сразу же, едва присев на кончик стула перед столом Мартьянова. — Я нашел ошибку, — сказал, расширяя глаза и переходя зачем-то на шепот. — Ошибку в типовой, утвержденной схеме… — и сам же боязливо оглянулся.
Захлебываясь и перебивая самого себя, худенький инженер стал рассказывать, нервно взмахивая руками. Он уже достаточно, кажется, освоил новую методику, мартьяновские лекции, упражнения. И начал искать, на чем бы испытать ее, на более серьезном.
— Тут я и наткнулся, словно сама судьба…
Очень важная схема, применяемая в промышленности. Управление главным приводом прокатного стана. Моторы вращают огромные тяжелые валки, которые обжимают, растягивают, раскатывают, как тесто, раскаленные болванки и полосы.
— Мне самому случалось по ней монтировать установки… В войну на Урале, может быть, где-то близко от тех мест, где расположился биваком в школе мартьяновский институт, где-то рядом в прокатных цехах ставил моторы, тянул сеть соединений инженер Малевич, заштатного вида, в солдатской замусоленной телогрейке, в ушанке, управляя с отчаянной решимостью ударной бригадой наладчиков. Скорее, скорее все поставить и пустить по готовой схеме, скорее, как под огнем!
И вот теперь он подошел к той же схеме не как простой исполнитель, а как проектировщик, исследователь, с инструментом научного анализа в руках.
— Решил поверить алгеброй…
Не говоря никому из окружающих, не докладывая по начальству, словно окопавшись от чужих взоров у себя за столом среди общего проектировочного зала, принялся он исподтишка допрашивать, перетряхивать схему. Обоснованную, официально принятую, рекомендованную всем, всем, всем.
Пробовал разложить условия работы электропривода по отдельным тактам, по столбикам и строчкам таблицы включений, как учил Мартьянов. Пробовал переводить на язык алгебры, как учил Мартьянов.
Очень важный момент: запуск мотора. Всего лишь четыре секунды проходит после того, как оператор нажал на кнопку пуска, — и мотор достигает уже полной скорости вращения. Если говорить точнее, то за три и восемь десятых секунды. Но своей полной скорости он достигает не сразу. Четыре последовательных ступеньки ускорения должен пройти он за эти три и восемь десятых секунды. Обязательно последовательно, постепенно. А не сразу взмывать свечкой на полный ход. Опасная эта штука, «свечка» для мотора.