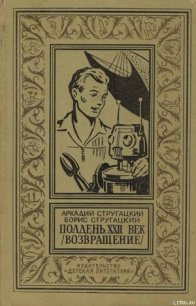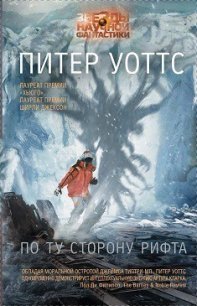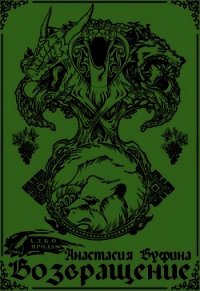Роман и повести - Баруздин Сергей Алексеевич (библиотека книг бесплатно без регистрации .txt) 📗
Теодолитчики замерили мою вешку: давай, мол, дальше…
Мне это даже понравилось: я опять вскочил в седло. И поехал по улице направо, вдоль сквера. Теперь я не видел за собой Соколова, он был где-то за углом, но вдруг услышал его голос:
— Быстрее! Жми!
Надо мной свистели пули, и я нажал на педали, чтобы скрыться с глаз немецких автоматчиков, засевших на чердаках и в верхних этажах домов.
На перекрестке тихо. Я поставил вешку и теперь увидел всю простреливаемую улицу. По ней мчались три велосипеда: Соколова, Сашин с теодолитом и Вадин. Вот они остановились под прикрытием домов и вновь замерили меня. И снова вперед, ко мне, а я уже помчался дальше. За мной свистели пули, я оглядывался на ходу. Нет! Наши проскочили! Я был полон гордости за себя. Черт возьми, впервые на велосипеде, и все так отлично! Я приподнял вешку и даже уселся поудобнее в седле. Велосипед чуть вилял, но я управлял им, и он слушался. Отлично!
Еще остановка, и еще, и еще. Мимо меня пронесся дивизион «катюш». Непривычный дивизион, ибо это не «студебеккеры», а наши отечественные трехтонки. На бортах надписи: «Защитники Москвы». Значит, вот еще откуда пошли «катюши»! В небе жужжали наши самолеты-кукурузники. И вдруг снегопад листовок полетел с них на город. Я схватил на лету одну. Немецкий текст. Разобрал фамилии: Сталин, Черчилль, Трумэн. Видимо, это обращение к немцам.
Улицы, на которых мы работали, относительно тихи. Но где-то впереди виднелись зарева пожаров, ухали выстрелы, было слышно, как летели стекла и падали стены домов. Там шел бой.
Вновь рывок вперед — мы тянули последнее колено теодолитного хода. Я поставил вешку у ворот какого-то большого заглохшего завода. Завод пуст. Некоторые корпуса разбиты. Разрушены соседние жилые дома. Щебень подметен в кучи, разрушения огорожены. Значит, это прежняя работа авиации. Нашей или союзной.
Соколов помахал мне издали: всё, закругляйся!
Я возвратился обратно, и мы все вместе переместились в соседний квартал города. Долго искали какую-то узкоколейку, которая значилась на карте, но не нашли. Выехали к конечной трамвайной и троллейбусной станции.
— Там, — сказал Соколов, показывая на ограду большого парка.
В парке и на перекрестке двух улиц выбрали место для трех наших постов.
На следующий день, двадцать шестого апреля, все повторилось. И двадцать седьмого, и двадцать восьмого, и двадцать девятого…
Второго мая — отдых. Отдых, а город еще горел, дрожал и трясся от огня артиллерии и взрывов бомб.
— Походим? — предложил Саша. — До наряда. И может, очки?
Мы знали, как Саша страдал без очков. В Котбусе мы нашли ему очки, но они оказались с разными стеклами.
— Один глаз ничего, а левый… — произнес Саша.
— Найдем! — уверил я Сашу. — И заодно этих посмотрим…
«Эти» — Гитлер и Геббельс. Ходили всякие слухи. Что Геббельс отравился газом со всей семьей. Что Гитлер застрелился. И — наоборот. И будто кто-то даже видел их трупы. А может, настоящий Гитлер смылся? Говорили и так, и всяко…
Мы пошли втроем — Саша, Вадя и я. Володя на дежурстве. Нам в наряд только к вечеру.
В парке цвела черемуха. Зеленели газончики. Цивильные немки и немцы выстроились в длинные очереди к солдатским кухням. Кастрюли, кастрюли, кастрюли, у некоторых — котелки, и у всех — белые повязки на рукавах. Наши солдаты весело разливали по котелкам и кастрюлям суп, разбрасывали большими черпаками кашу. На домах белые флаги, простыни, даже наволочки, полотенца и опять простыни. Все белое пускалось сейчас в ход. Капитуляция. Капитуляция!
— Господа солдаты! — окликнул нас пожилой мужчина. — Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
Перед нами был немец не немец, русский не русский, тоже с белой повязкой на рукаве, заискивающий, прячущий за спину котелок.
— Спасибо, — сказал Вадя, — мы так…
— О, вы знаете, как я рад, что русские пришли в Берлин! — воскликнул мужчина. — Ведь я сам из Одессы. Да, да, из Одессы! Я специалист по импорту кожи и работал в русском торгпредстве. Я так люблю Россию и скучаю по ней! Я надеюсь, что сейчас мне представится случай возвратиться на родину…
— «Представится случай»! — ухмыльнулся Саша. И вдруг закипятился: — А знаете ли вы… — Но осекся и сказал с досадой и несвойственной грубостью: — А ну его к чертовой матери! Какая у него родина!
Кажется, мы думали об одном и том же.
Как часто к случаю и без случая мы произносим святые, полные глубокого смысла и волнения слова. И смысл их стирается, слова доходят только до уха, а не до сердца.
И кто-то привыкает к этому с детства, и высокие слова не трогают его. Как бумажные цветы, как ватный снег. И так можно прожить всю жизнь и потом, на старости лет, сказать, как этот берлинский господин: «представится случай возвратиться на родину».
Но вот приходят испытания для тебя, для твоего народа, для твоей страны, и стертые слова оживают в первозданном значении. И люди идут с этими словами на смерть. И с ними побеждают все испытания. И с ними радуются победе и оплакивают убитых, с ними качают на руках новорожденного ребенка и поднимают из руин разрушенное.
И, наверно, никому из нас не нужно сейчас произносить вслух эти слова. Ни Саше, ни Ваде, ни мне, ни всем другим, кто пришел за тысячи верст от родных мест в Берлин. Эти слова у нас в самом сердце, а вернее — это даже не слова. Это — чувство родины…
Возле станции подземки работали наши санитары и врачи. Из-под земли выносили тела людей — стариков, женщин, детей. Выносили тех, кто прятался в метро в дни штурма города и которых затопили сами немцы.
— Своих! Как это можно! — поражался Вадя.
— Ты не был в Освенциме и под Фридляндом в Ламсдорфе, — отвечал Саша. — А мы были…
А на стенах домов — немецкие надписи: «1918 вирд зих нихт виедерхолен!», «Зиег одер Зибириен!», «Фюрер! Вир верден дир бис цум твой зайн!». [8]
Они начертаны масляной краской на стенах домов, на заборах, и их сразу не смоешь. Некоторые уже перечеркнуты мелом. Рядом с ними иные, наши, сделанные поспешной рукой солдата: «Мы в Берлине», «Конец!», «Будь здоров, фюрер, на том свете!».
— Как же очки? — вспомнил Саша.
— Да, да, очки!
Мы стали вглядываться в разбитые витрины. Есть же у них что-нибудь вроде наших магазинов «Оптика» или просто аптек. Одна улица, другая, пятая… Но нам ничего не попадалось. Опять очереди к солдатским кухням и за водой. Опять черемуха и газоны. Опять какие-то пришибленные люди, перехватывающие нас: «Капут! Гитлер капут! Аллес капут!»
— Пошли туда, — сказал Саша. — Может, там…
Перед нами была пустынная широкая улица. Дома — высокие, светло-серые, с конусообразными крышами. Многие целы. Вокруг развалин заборы и заборчики, щебень и стекла подметены и сложены в аккуратные кучки.
— Так это знаменитая Унтер-ден-Линден! — воскликнул Вадя, прочитав табличку на перекрестке.
Унтер-ден-Линден так Унтер-ден-Линден! Улица и в самом деле, видимо, главная. Может, здесь?
Первый квартал, второй.
— Вот, — заметил Вадя.
Из разбитой витрины на нас смотрели головы в очках. Какие-то аппараты, стекла, линзы и главное — очки.
— Подбирай!
Саша мерил очки подряд, одни за другими. Наконец, кажется, нашел:
— В самый раз.
— А ты хорошо проверил?
— Подходят, вполне подходят. Я прямо воскрес! Вот спасибо вам!
Теперь мы пошли дальше уже более бодро. Саша воспрянул духом, и в голосе его появилось что-то восторженное:
— Действительно, посмотрим этих. Ведь глупо же быть в самом Берлине и не посмотреть, правда? Кажется, там. Ближе к рейхстагу.
Рейхстага мы пока не видели, но по гулу выстрелов и дыму пожаров чувствовали — впереди еще шли бои. И, видимо, в районе рейхстага.
— А я все думаю, — продолжал Саша, — как это интересно: мы в Берлине! А ведь это же… Ну просто слов нет!
— Не понимаю, почему здесь так пусто. Посмотрите, ни души, — насторожился Вадя. — Может, не стоит дальше?..
8
«1918 год не повторится!», «Победа или Сибирь»! «Фюрер! Мы будем верны тебе до конца!» (нем.)