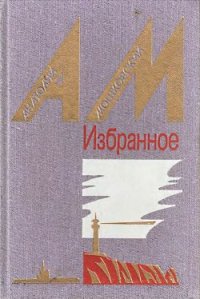Неистовый Пашка - Мошковский Анатолий Иванович (читать бесплатно книги без сокращений txt) 📗
Вдруг его сердце заколотилось: на вершине дальней сопки замаячил силуэт одинокого оленя… Может, за сопкой вся группа?
Пашка пустил упряжку к сопке. Олень оглянулся и тотчас исчез, словно его ветром сдуло.
Как ни осматривал Пашка тундру, как ни кружил вокруг того места, но так ничего и не обнаружил. Верно, это был отбившийся от какого-то стада одинокий олень, а может, и дикий, кто знает.
День подходил к концу. В одном месте Пашка едва не утопил своих быков в болоте. Думая, что оно неглубокое, хореем заставил их войти в воду, а когда передовой погрузился по шею в вязкую торфяную жижу, едва вытащил их за вожжу назад, на твердый берег. Олени дрожали, отряхивались от бурой грязи и гнилого мха и недоверчиво косили на Пашку огромные, налившиеся кровью глаза.
Потом случилось так, что он слишком резко дернул вожжу, и нарты опружились — опрокинулись, съезжая с крутой кочки, и Пашка, изогнувшись скобой, полетел на землю. И, конечно, упряжка удрала бы от него, если б он не намотал на руку вожжу. Протащившись по кочкам, выбоинам и лужам метров сорок, Пашка, улучив момент, вскочил на ноги, удержал быков, поставил опрокинувшиеся нарты на полозья, подобрал свалившуюся шкуру-постель, тынзей и топор, очистил от грязи хорей и двинул дальше.
Ему было горько. Он ехал и плакал от обиды. Никто в чуме не видел его слез, а сейчас они широкими полосами текли по его лицу, и он не вытирал их. Они смешивались с болотной грязью и потом, с ворсинками мха и комочками торфа. Он плакал громко, навзрыд, и привыкшие ко всему, покорные и безмолвные северные работяги-олени удивленно прислушивались к непонятным звукам.
Пашка плакал и гнал упряжку вперед, вдавливая в торфяную землю полярные ивки и березки, расплескивая крохотные озерца, вспугивая стайки пестрых квокающих куропаток. Ехал и плакал — так было ему тяжело и муторно. Он не знал, он совсем не знал, что в это время бригадир Никифор снарядил на поиски его и пропавших оленей трое нарт: на одни сел сам, другими правил его сын Иванко, третью упряжку гнал свободный от дежурства пастух Семен Талеев. Они разъехались в разные стороны. Ничего этого Пашка не знал.
Смеркалось. Зажглись звезды. Задул ветерок.
Пашка захотел есть. Ведь он даже не завтракал сегодня. Он знал, где находится их стойбище, но и не подумал возвращаться с пустыми руками. Один раз он увидел на далекой плоской сопке чью-то упряжку — очевидно, кто-то ехал из их стойбища. Подъехать и попросить еды? Нет, Пашка повернул быков в обратную сторону и мчался до тех пор, пока упряжка не скрылась из виду.
Когда невмоготу захотелось есть, он слез с нарт и стал ползать по земле, пригоршнями собирая голубику. Упругие холодные ягоды приятно освежали рот, но плохо подкрепляли силы. Более питательной оказалась рыба. У одного озера, в кустах, была припрятана его удочка, и Пашка без особого труда поймал пяток хороших пелядок.
Спичек у него не было. Тогда он вытащил из медных ножен висевший на ремне большой нож, очистил на нартах от чешуи рыбу, вспорол брюхо, выпотрошил и нетерпеливо вонзил в холодную хрустящую мякоть свои молодые белые зубы. Пока Пашка деловито и тщательно пережевывал рыбу, быки тоже не спали: они жадно щипали ягель.
Кончив есть, Пашка вытер рукавом маличной рубахи тубы, минут десять полежал на упругих, как пружинный диван, зарослях березки, отдыхая всем телом, долго и устало смотрел в небо. Потом резко вскочил на ноги, подошел к упряжке и по-дружески похлопал по холке быков.
— Ну, олешки, тронули, — сказал он, поднял хорей, посмотрел на их белые куцые хвостики, протяжно вздохнул и гортанно крикнул: — Пошли!
И упряжка исчезла за сопкой…
На третий день в стойбище остервенело залаяли собаки. Из чумов, как обычно, стали выходить ненцы. Вышел и Ефим. Поиски Пашки и пропавших оленей ни к чему не привели. Он решил, что олени убежали слишком далеко, нет смысла продолжать поиски, а Пашка, этот самолюбивый неистовый мальчишка, наверное, умчался к своей родне на базу оседлости. А может, может…
До чего же удивился Ефим, увидев на нартах сына! Ефим сходил в чум и вернулся с ременным тынзеем. Он, признаться, в глубине души не очень-то ожидал встретить сына живым и невредимым, ну, а раз встретил — без тынзея дело не обойдется…
Упряжка медленно подъезжала к стойбищу. Ефим неподвижно поджидал ее, закинув за спину руки со свернутым тынзеем. Маличная рубаха клочьями висела на малице сына. Вся она была заляпана грязью, кое-где на нее налипли круглые листки березки. Щеки сына ввалились, слегка приплюснутый нос заострился, лицо иссекли царапины, из темных ям глазниц холодным острым огнем пылали исчерна-карие глаза.
Убрав из-за спины руки и не пряча тынзея, Ефим подошел к нему:
— А ну подъезжай поближе.
Пашка подъехал. Ефим терпеливо ждал, пока сын прикрутит вожжу к нартам.
— Кто тебе позволил брать быков? — спросил отец раздельно, когда Пашка, наконец, подошел к нему. — Книги этому учили тебя, а? Книги — спрашиваю? Ни одной не осталось в чуме, все сжег.
— Сжег? — тихо спросил Пашка не веря.
— Сжег, — тяжело уронил отец, задыхаясь от бешенства, и изо всех сил ударил Пашку тынзеем по лицу.
На щеке медленно вспух белый косой рубец.
— Слыхал, как я кричал тебе вдогонку? — спросил Ефим, поглаживая толстыми с черными ногтями пальцами тынзей. Он исходил злобой. «Что ж это такое, — думал он, — бригадир, бывший друг, угрожает заявить в правление колхоза, родной сын не слушается, жена, баба, у которой короткий, как олений хвост, ум, и та упрекает его… Или они все думают, что из него уже можно вить веревки? Ошибаются маленько… Ой как ошибаются!»
— Слыхал, как я кричал тебе? — повторил он.
Пашка не отворачивал от него лица. Белый рубец на щеке стал чуть краснеть.
— Слыхал.
Ефим скрипнул зубами и еще раз изо всех сил ударил его тынзеем. Второй рубец вспух на щеке. И отец, не давая себе отчета, стал полосовать его тугим тынзеем. Он хлестал его по голове, по лицу, по спине, по груди, по рукам. Один шрам на подбородке кровоточил.
Пашка не убегал. Он стоял на месте и даже не делал попыток заслониться. Он стоял перед ним — худой, угрюмый, в измазанной грязью малице, и сухие, глубоко запавшие глаза его горели тихой и ясной ненавистью.
Он молчал. Один за другим сыпались на него удары. Ефим точно опьянел от злобы и даже вид беззащитного человека не мог его остановить.
— Спасибо, — выдавил наконец Пашка, и новый обжигающий удар по шее едва не свалил его с ног. — Я нашел твоих оленей.
— Что-что? — закричал отец, и взлетевший вверх тынзей не опустился на сына, а на какую-то долю секунды застыл в воздухе, упал, повис и закачался в отцовской руке. — Где ты нашел их? Где? Мы всё вокруг полозьями перепахали… Где ты нашел их? Ты врешь!
И опять тынзей взвился вверх, но тут быстрая рука Никифора догнала его руку и так сжала запястье, что красные Ефимовы пальцы растопырились в стороны. Тынзей упал к его тобокам, и нога бригадира вдавила его в землю.
— В тундре нашел, — сказал Пашка отходя. — В стаде они, можешь проверить.
Никифор отпустил руку отца:
— Не для этого плетется тынзей, Ефим.
— А тебе какое дело? — тяжело дыша, сказал отец. — Мой тынзей и сын мой.
Все население стойбища обступило их в глубоком молчании.
— Твой, да не весь, — сказал Никифор, — и как у тебя мог родиться такой сын…
Ефим не ответил ему.
— Пашка, иди в чум, приказал он, и в его лице появилось что-то новое, и даже голос зазвучал по-иному.
— Можешь идти и в мой, — произнес Никифор. — Смотри, взял бы тебя в сыновья.
Пашка кивнул ему, отвернулся от отца и, прихрамывая, пошел в свой чум. И в то самое время, когда он открыл дверь, Иванко крикнул:
— Смотрите, летят!
Пашка на секунду задержался и поднял голову. По холодному серому небу неудержимо и безмолвно летели на юг лебеди.