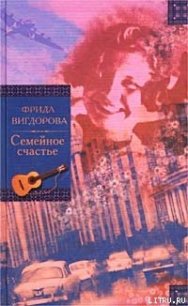Черниговка - Вигдорова Фрида Абрамовна (прочитать книгу TXT) 📗
III
– Скорее позовите ко мне Мишу Щеглова!
Я держу в руках письмо и не могу поверить такому счастью – Мишин отец жив! Вот у меня в руках письмо, и в нем черным по белому:
«Из Бугуруслана мне сообщили, что мой сын Михаил Щеглов находится в настоящее время во вверенном Вам детдоме. Я надеюсь, что ошибки нет. Прошу сообщить отчество мальчика, имя матери и другие сведения, которые помогли бы установить… Из Вязьмы мне сообщили, что жена моя умерла в августе 41 года от тифа».
Да, да, нельзя спешить. Сначала надо все сопоставить, проверить… Когда Миша входит ко мне, я спрашиваю его самым спокойным и безразличным голосом, какой только мне дается:
– Миша, как звали твоего отца?
– А что? Сергей Васильич.
Так! Очень хорошо.
– А маму?
– Елена…
Не могу больше спрашивать, нет сил дольше тянуть. Протягиваю Мише письмо:
– Узнаешь почерк?
Он пробегает глазами письмо. И, побледнев, но ничуть не изменившись в лице, говорит:
– Да, это он писал.
– Миша, ты еще не понял, видно! Папа жив, понимаешь, оказывается, та похоронная – ошибка! Ну, понял? – Я трясу Мишу за плечи, мне хочется, чтоб скорее дошло до него счастливое известие, но он стоит предо мной по-прежнему спокойный, почти безучастный. Да что с ним? – Я сейчас напишу твоему папе. Подумай, как он обрадуется! Садись и ты, напиши. Вот бумага, вот перо.
Он отвел мою руку.
– Не буду я писать.
– Почему?!
– Галина Константиновна, не спрашивайте меня. Я ему не стану писать. Ни за что не стану. И пускай не приезжает.
– Он… он обидел тебя? Или… маму?
– Галина Константиновна, если б он воровал, если б судился… Если б он ни за что человека убил… Я б вам сказал… А этого не скажу… Хоть режьте…
Я с трудом разжала его руки: заплакав, он закрыл лицо руками и стиснул их изо всей силы. Он плакал без слез, судорожно всхлипывая и мотая головой. Я посадила его около себя, мне вдруг вспомнился Федя. Когда не стало его матери, он так же плакал – без слез, мучительным, сухим рыданием. Он плакал, когда было уже поздно что-либо переменить, исправить. Что же тут? Чем виноват отец перед Мишей, что кроется за этим «не скажу»?
Он ушел и, как я поняла, ничего не рассказал ребятам. Всем было любопытно, зачем я звала Мишу, но после первых же вопросов от него отстали. Не мог успокоиться только один человек: Тоня. Она не терпела, когда что-нибудь оставалось для нее скрытым.
– Что это Щеглов какой перевернутый вышел?
– Тоня…
– Ага, не касаться. Ну, ладно, не буду. Только вот что я думаю: Мишкин отец жену бросил, Мишкину то есть мать. И он про отца потому никогда не говорит. Я спрашивала, а он молчит, как пень лесной.
Тоня выжидательно смотрит на меня – не скажу ли я чего? Не пролью ли свет? Чутье этой шалой девчонки не перестает меня удивлять. Почему она понимает, что дело идет о Мишином отце? Она ровно ничего не знает, но ходит около, рядом, еще чуть – и она нащупает истину.
Я молчу. Тоня вздыхает. Меняет разговор, заводит речь о том о сем. Когда она уходит, я говорю вдогонку:
– Смотри, Тоня, Мишу ни о чем не спрашивай.
– Ладно уж. И почему люди такие скрытные пошли? Вот я про себя – пожалуйста, что хотите могу рассказать.
Долго я думала над тем, как ответить Мишиному отцу. Кажется, ни разу в жизни мне не приходилось писать такое трудное письмо. Каково будет ему получить от меня несколько сухих строчек – и ни строчки от сына? Когда пишешь неправду, и слова-то лезут под перо какие-то неживые:
Миша Щеглов, находящийся во вверенном мне детдоме, действительно оказался Вашим сыном. Его отчество – Сергеевич, мать звали Еленой, они жили в Вязьме, где и умерла от тифа Ваша жена.
Я не объясняла, почему не пишет Миша. Что-то удерживало меня от прямого разговора с человеком, о котором его сын сказал, что он сделал что-то худшее, нежели воровство и убийство…
Сережу не все и в лицо-то запомнили – он пришел и ушел безмолвно. Но от этой безмолвной и словно бы незаметной гибели на все легла тень. Ленинградцы сбились вокруг Владимира Михайловича. У них не было сил горевать, не было сил плакать. Им не хотелось вставать по утрам, а я суеверно боялась оставлять их в постели. Владимир Михайлович подходил к каждому и с мягкой настойчивостью заставлял одеваться.
– К завтраку чай с молоком и каша, – говорил он. – Хорошо выпить горячего чаю с хлебом. Вставай, Витюша, давай я тебе помогу. Гриша, а где же твои башмаки? Мне трудно нагибаться, ну-ка, вытащи их из-под кровати. Да смотри больше не заталкивай так далеко…
Тёма Сараджев был единственный живой среди них, не сломленный, единственный, кто горевал, как живой человек, и, вопреки всему, радовался новым товарищам, солнцу, снегу, деревьям.
– Так надоело в поезде. Утром встаешь, вечером ложишься, и все одно и то же – поезд и поезд! – говорил он, выглядывая в окно и щурясь от солнца. – Мне нравится тут у вас.
Тёма вставал вместе со всеми и тотчас спрашивал Владимира Михайловича:
– А мне что делать?
– Помоги Грише зашнуровать башмаки… помоги Вите умыться…
И Тёма шнуровал башмаки, заботливо помогал умываться и все делал охотно, без скрипа.
– Сережа был очень хороший, – рассказывал он мне. – Умный. Не жадный. Справедливый… Один раз… один мальчик… неважно, кто… просто один мальчик должен был делить хлеб и себе взял больше, и Сереже дал больше, а другим меньше, и Сережа сказал: «Не надо, я хочу всем поровну». Он был маленький, но очень справедливый. Когда у меня был день рождения, он отдал мне свой сахар. Большой кусок – знаете, не пиленый, а колотый, – вот такой кусок. Я не хотел брать, а он сказал: «Ведь у тебя день рождения!» Он был очень хороший, и я его любил, как брата.
– А у тебя есть братья?
– Нет, я один. Это плохо, правда? У каждого человека должен быть брат или сестра. Но, по-моему, брат лучше.
– Мне очень ваши ребята нравятся, но больше всех – Наташа и Женя, – сказал он в другой раз. – И еще мне нравится, что над ними никто не смеется. У нас в классе или во дворе, например, обязательно бы смеялись. И дразнили. А у вас нет. Это хорошо.
Тёма Сараджев пошел в школу, как только окончился скарлатиновый карантин. Он пошел в шестой класс и сел за одну парту с Наташей Шереметьевой.
– Ты не возражаешь, что я сел с Наташей? – спросил он Женю.
Тот вскинул удивленные глаза:
– А почему я должен возражать?
– Я буду ей как брат, – сказал Тёма.
– А я ей дедушка, что ли? – ответил Женя, не желая понимать истинного смысла Тёминых слов.
Тёма отстал почти по всем предметам, но голова у него была хорошая, и он быстро начал догонять.
В эти же дни пошел в школу и Андрей – работать. Ему дали второй класс – на время, пока учительница лежала в больнице, – и шестой класс: учительница получила вызов в Москву. В шестом Андрей должен был вести русский язык и литературное чтение.
– Зачем ты взял малышей? Что ты с ними будешь делать? Разве ты сумеешь с ними? – недоумевала я.
– Хочу попробовать. И потом, это ведь, ненадолго, только на месяц-другой.
Андрей нашел себе угол, но после работы все время проводил в детском доме или у нас, на Закатной. Обычно он проверял тетради и готовился к урокам в каморке, служившей мне кабинетом. Потом провожал меня домой и часто за полночь сидел на кухне за книгой. Там, где он жил, вечером читать было нельзя: к десяти все укладывались. И Андрею, когда он возвращался, тоже оставалось только лечь – его койка стояла с краю.
– Может, поставим вам коечку здесь, на кухне? Место есть! – предлагала Валентина Степановна.
– Ну, зачем стеснять…
– Все равно этим кончится, – замечала та философски, – чего на два дома жить. Все равно здесь и едите и занимаетесь, чего вам куда-то такое, на ночь глядя, тащиться. Я ж говорила – колхоз будет расти да расти.