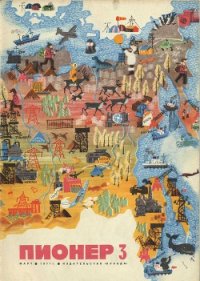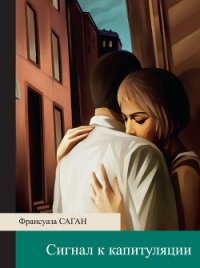Сигнал надежды - Львовский Михаил Григорьевич (мир книг .TXT) 📗
Но когда старушка сказала ей: «Ты могла бы стать избранницей судьбы, а гробишь свою жизнь на это, — неистовая Неонила постучала пальцем по коробочке со шприцем. — А на это способна любая. Тысячи, десятки тысяч», — девушка не выдержала. Хлопнула крышка пианино.
— До свидания, Неонила Николаевна.
— Танечка…
Но Таня уже бежала к калитке. Её потрёпанная нотная тетрадка осталась на пианино.
С аккуратным свёртком в руках Таня вошла в шумное помещение, где шёл приём передач для больных. В приёмные дни это единственный способ разнообразить больничную кухню. Родственники больных писали записки, умоляли непреклонных санитарок передать что-либо непредусмотренное специальным предписанием. Разговор в этих случаях был коротким: «Нет, и всё!»
По временам санитарки возвращались с ответами от больных и выкликали их родственников.
— Сорокина! Получите из тридцать второй.
— Солдатенко! Возьмите обратно сумку. Я вашей жене всё в тумбочку поставила. Она как раз уснула, так что письма не ждите.
— Консервы — нельзя!
— Колбасу — нельзя!
— Арбуз — нельзя!
В укромном уголке Таня написала на своём свёртке «Карташову А. Е. 3-й этаж…».
— Люся! В какой у вас палате Карташов?
— В четвёртой, — ответила молоденькая санитарка. — А зачем он тебе?
— Передачу принесла.
— Карташову? Ты что, спятила? Он вторые сутки ничего в рот не берёт. Его, наверное, скоро в психушку отправят.
У Тани ёкнуло сердце.
— Люсь…
— А почему сама не отнесёшь?
— Так надо.
— Что у тебя там? — Люся пощупала свёрток, встряхнула его и, услышав бульканье, посмотрела Тане в глаза.
— Рехнулась, да? Он тарелками швыряется, а ты ему… И не подумаю. Хочешь — сама неси. Твоё дело. А я в ваши игры не играю.
— Консервы — нельзя!
— Колбасу — нельзя!
— Опять арбуз? Граждане, кто с арбузами, зря не стойте!
Первое, что увидела Таня, когда обошла хирургический корпус, чтобы попасть к служебному входу, был огромный арбуз, покачивающийся на верёвочке, которую ловко втаскивал больной в окно третьего этажа. Больные хирургического отделения прилипли к окнам. Внизу стояли их родственники и друзья. Переговаривались жестами. На верёвочках взвивались вверх хозяйственные сумки, и то, что не удалось передать законным путём, быстро попадало по назначению незаконным. Таня усмехнулась. Незаконный путь был известен всем. Сколько раз его пытались закрыть, но безуспешно. После снятия очередного специального надзора опять начинали взвиваться вверх хозяйственные сумки.
— Вира, вира помалу!
Незаконный путь для Тани был абсолютно неприемлем. Да и не увидела она Карташова ни в одном из окон, сколько ни вглядывалась.
В кабинете профессора Корнильева, развалившись в кресле и вытянув ноги, сидел невропатолог Глеб Афанасьевич Спиридонов. Он был молод, но довольно удачлив и поэтому разговаривал с любым собеседником слегка снисходительно, даже если считал нужным ему польстить.
— У вашего Карташова, Николай Александрович, только обычные постоперационные явления. Физиотерапия быстро их снимет, и он будет абсолютно здоров. Вы — кудесник!
— Не надо, Глеб Афанасьевич, — поморщился Корнильев. — Когда я заведовал всей больницей, меня почему-то никто не мог обыграть в шахматы. А теперь, когда оставил себе только хирургию, легко обштопывают отоларингологи, дерматологи, офтальмологи… Только у себя в отделении я по-прежнему чемпион. Как вы оцениваете общее состояние Карташова?
— Со стороны нервной системы всё в абсолютной норме. Все рефлексы как в учебнике. Мой диагноз — плохое настроение. У всякого, знаете ли, бывает. А тут вполне понятный страх перед операцией. Всё окончилось благополучно, и в результате — парадоксальная реакция, срыв.
— Плохое настроение для Карташова — это болезнь. И её надо лечить. По-моему, у него депрессивный невроз, — ответил Корнильев.
— Я дал ему свои таблетки, но ваш Карташов их тут же демонстративно выбросил. На мой взгляд, Николай Александрович, вы зря беспокоитесь. Невроз! Да я сам от телефонных звонков чуть не падаю со стула.
— Сапожник без сапог. А у меня с фронта язва двенадцатиперстной. Никак не избавлюсь.
— Вот-вот. На Западе некоторые учёные утверждают, что в наш век всё человечество страдает неврозом и надо лечить род человеческий.
— Реакционеры?
— Кто?
— Эти учёные.
— Разумеется.
— А может быть, они правы?
— Скажите это на ближайшей конференции. Я посмотрю, что с вами сделают.
— Психиатра Карташов к себе на пушечный выстрел не подпустит… — задумчиво произнёс Корнильев, не обратив внимания на последние слова невропатолога.
— А ему тут делать нечего.
— Какая тема вашей диссертации, Глеб Афанасьевич?
— Я всё по пирамидальным путям ударяю.
— Ну что ж, ударяйте, — согласился Корнильев.
Неожиданно зазвенел телефон, и невропатолог так подскочил в кресле, что Николай Александрович рассмеялся. И была в его смехе явная укоризна. А невропатолог вынул платок и вытер пот со лба.
В коридоре реанимационного отделения за столиком дежурной сестры сидела старая санитарка Аннушка.
— Где Маша? — спросила её Таня.
— Сейчас будет. Отлучилась на минутку.
— А вы двое суток подряд отдежурили?
— Все молодые болеют, — ответила Аннушка, — а для меня, старухи, не в тягость.
Появилась запыхавшаяся, раскрасневшаяся Маша с ракеткой в руке. На Машином лице и халате Таня заметила следы сажи, и ей всё стало ясно.
— Опять в котельной резалась в пинг-понг?
— А где ещё, если нас гоняют отовсюду?
Маша спрятала выбившуюся из-под шапочки прядку волос и принялась ликвидировать следы пребывания в котельной.
Таня хотела сказать ей что-то резкое, но сдержалась.
— Ладно. Постараюсь, чтобы вас и туда не пускали. И пригрозила Маше: — Переведут опять в санитарки — локти кусать будешь.
— Я? Да меня в любой момент в кафе «Лира» официанткой возьмут. А могу в гастроном продавщицей пойти. Как сыр в масле кататься буду, не то что здесь.
— Николай Александрович у себя? — прервала Таня обычную Машину болтовню.
— Угу. Он сегодня в Ростов летит. Там две операции. А потом в Армавир. В шестнадцатой — тьфу-тьфу — полный порядок! Шеф сказал: «Вне опасности». Вот бы никогда не подумала.
— Маша, — попросила свою сменщицу Таня, — задержись на несколько минут. Буквально. Я мигом.
Она сняла свой белоснежный халат, и оказалось, что под ним всё самое красивое и модное, что Таня надевала в особо торжественных случаях.
Маша сделала большие глаза, а Таня набросила халат на плечи, оглядела себя в зеркале и с аккуратным свёртком в руках выскочила на лестничную площадку.
Карташов лежал в палате, в которой вместе с ним обитало ещё четверо выздоравливающих молодых ребят. Может быть, профессор Корнильев определил его именно в эту палату не без умысла. Все ребята запаслись транзисторами. На одном из подоконников работал портативный цветной телевизор с отключённым звуком. Одетые в домашние брюки, свитера, куртки, чтобы можно было погулять по огромному больничному саду, сходить к парикмахеру, во всеоружии встретить друзей и подружек, если представится случай, эти ребята считали дни до выписки. Только бывший лётчик-истребитель не расстался со своим серым халатом. Небритый, с заметно отросшей бородой, он лежал на кровати, устремив глубоко запавшие глаза в потолок. На его тумбочке скопились тарелки с нетронутой снедью. Это волновало молодых выздоравливающих.
— Дед, сырники ты в самом деле не хочешь?
Карташов молчал.
— А рулет картофельный с мясом? Слушай, дед, я тогда тебе помогу…
— Ты уже вчера тефтели помог. А мне пять килограммов нагнать надо до нормы. Не трожь сырники.
— Сырники вес не дают. Бери рулет… Дед, а как насчёт колбасы? У кого острый нож есть? Она твёрдая как камень. Её тоненько-тоненько резать надо. Чтобы просвечивала.