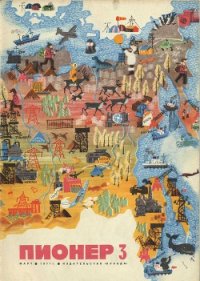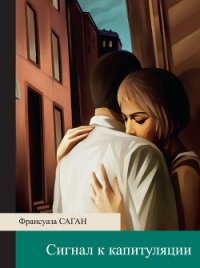Сигнал надежды - Львовский Михаил Григорьевич (мир книг .TXT) 📗
— А чем мама болела? — насторожился выздоравливающий.
— Чем болела — неважно. Но ты сломал её любимый фикус.
Профессор распахнул дверь в коридор.
— Люся! — крикнул он. — Анатолий Егорович просит перевести его в общую палату. Кажется, в четвёртой есть место.
После ночной смены надо отсыпаться днём. Сквозь закрытые деревянные жалюзи свет пробивается узкими лучами, падающими на Танину кровать яркими чёткими полосами. Таня спит беспокойно, то и дело ворочается.
Танина сестрёнка, девочка лет восьми, на цыпочках ходит по комнате. Она разгружает её хозяйственную сумку, накрывает на стол. Обнаружив бутылку «Столичной», долго её рассматривает, не зная, как поступить, а потом решает, что раз сестра купила эдакую невидаль, её следует поставить в центре стола. Ненадёжно прислонённую к стене гитару девочка осторожно вешает на гвоздик.
Когда звенит будильник, Таня долго не может сообразить, ночь сейчас или день. Она быстро, с привычной готовностью к немедленному действию, садится на кровати, а глаза бессмысленные. Открыты, но ещё спят. Постепенно Таня понимает, что никакого немедленного действия от неё не требуется, глаза просыпаются и, встретившись со взглядом сестрёнки, теплеют. Но, увидев на столе «Столичную», Таня спохватывается и быстро прячет бутылку в сумку.
— Светка, какой сегодня день?
— Четверг, — отвечает сестрёнка.
— Почему я на пять будильник поставила?
— Тебе к Неониле Николаевне…
— Правильно. Что бы я без тебя делала!
Сёстры чаёвничают в своей маленькой комнатке старого деревянного дома на окраине города. Окно распахнуто, и ранняя южная осень заглядывает в него ещё жаркими, но уже не испепеляющими лучами.
— Я от Серёжи Лаврова опять письмо получила, — говорит Света.
— Ну и что же он тебе пишет? — спрашивает Таня, подчёркивая слово «тебе».
— Что всегда. Не вышла ли ты замуж, — подчёркивает Света слово «ты».
— Покажи письмо, — просит Таня.
— Зачем?
— Может, ты не всё разобрала. — В Танином голосе звучат виноватые нотки, как будто она нарушила какой-то давний уговор.
— А он вот такими печатными буквами… — показывает Света, какими огромными буквами пишет Серёжа Лавров. И это означает: «Нас не проведёшь!»
— Про себя что-нибудь сообщает?
— Про себя он нарисовал пароходик.
— Когда сочинишь ответ, я ошибки проверю. А то ты в прошлый раз в одно слово написала: «нивышла». Красней за тебя.
— Сама бы и написала без ошибок, — обиделась Света.
— Что?
— Что надо.
Таня не выдерживает:
— Дай письмо.
— На. Только, чур, не реветь!
Слёзы сами потекли из Таниных глаз, едва она увидела Серёжкины печатные буквы.
— Начинается! — сказала Света. — Что Серёже про нас написать?
«Надо взять себя в руки», — подумала Таня и сказала:
— Про нас нарисуй самолётик.
…Неонила Николаевна жила неподалёку. Тоже в ветхом деревянном доме с застеклённой террасой.
Таня ловко расправилась с ампулой. Взметнулась вверх тоненькая струйка из серебристой иглы. А когда девушка прижала ваткой место укола на тощей руке Неонилы Николаевны и, как всегда, спросила: «Не больно?» — старушка, отрицательно покачав, головой, сказала:
— У тебя золотые ручки. И всё-таки я тебе никогда не прощу, что ты забросила музыку.
— А я не забросила, Неонила Николаевна.
— Знаю, слыхала, — вздохнула старушка. — Бренчание под гитару: «Арлекино, Арлекино…» — это же самообман!
Таня опустила голову.
— Помнишь, как вы во Дворце пионеров называли свою старую учительницу пения?
— Неистовой Неонилой, — не поднимая головы, ответила Таня.
— Я такой же и осталась. Какой у вас был дуэт с Серёжей Лавровым! Истинно божественное сладкоголосие, как говорили в старину. Но он хотя бы успешно закончил что-то там научное, бог ему судья. А ты? С твоей одухотворённостью…
— Неонила Николаевна, — робко сказала Таня, — я музыку пытаюсь сама сочинять.
— Сочинять? — изумилась бывшая учительница пения.
Сначала её глаза были полны недоверия, а потом постепенно в них вспыхнула радостная надежда.
— А что? Это может внезапно, как молния, озарить душу. И в глубокой провинции вдруг засверкает самородок! Покажи, сейчас же покажи мне что-нибудь!
Сухонькая, с красными пятнами на щеках, Неонила Николаевна всегда была порывистой и чересчур суматошной. Годы не принесли ей успокоения.
— Я боюсь, — призналась Таня.
— Меня? Да я же всё пойму! — горячилась Неонила Николаевна, волоча Таню к пианино, которое всю тёплую пору стояло на застеклённой террасе. Почти насильно она усадила девушку на круглую вращающуюся скамейку, а сама устроилась в качалке возле стола, покрытого потёртой клеёнкой.
— Это песни, — сказала Таня.
Неонила Николаевна кивнула.
— Даже не знаю, какую сыграть… — всё ещё трусила Таня. Вытащив из сумки потрёпанную нотную тетрадку, она поставила её на пюпитр и начала перелистывать страницы.
— Какую сама считаешь лучшей. Песни — это хорошо. Их писали Шуман, Шуберт и даже Бетховен. Давай, давай, не стесняйся.
— Боюсь, — опять сказала Таня, перебирая клавиши.
— Чего? Я уже по твоим первым аккордам чувствую, что хорошо. Ну!
— Это не мои аккорды, — сказала Таня. — Это аккорды Шуберта.
— Ну давай, давай, не ломайся.
— Разве что эту…
Постепенно из шубертовских аккордов как бы выплыл слегка наивный аккомпанемент Таниной песни.
Лицо Неонилы Николаевны засияло от восторга. Ей очень хотелось, чтобы заблестел в провинции самородок.
Наконец Таня запела, как всегда чисто и трогательно:
Некоторое время Неонила Николаевна продолжала подбадривать Таню восторженным выражением лица. Но это продолжалось недолго. Восторженное выражение превратилось в маску, и, позабыв снять её, Неонила Николаевна сказала:
— Довольно, Танечка. Это, родненькая, не сочинение музыки, а совсем, совсем другое. Стихи не моя область, поэтому молчу. Но когда-то то, что ты делаешь, называлось: подобрать мотивчик. Нет, чудес не бывает, моя милая. Из искусства не уходят. Даже те, кому не повезло. Некоторые, например, становятся обыкновенными учительницами пения и никогда — слышишь? — никогда об этом не жалеют.
Самородок обнаружить не удалось, и Неонила Николаевна, казалось, была искренне огорчена.
Таня слушала свою бывшую учительницу с горьким удивлением. Горько было оттого, что неистовой Неониле не понравилась песня. Удивление вызвала странная, необычная резкость тона, с которым был вынесен приговор.
Таня очень любила свою бывшую учительницу и сейчас проклинала только себя.