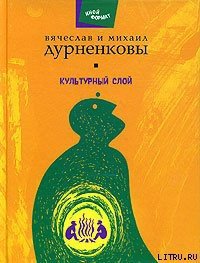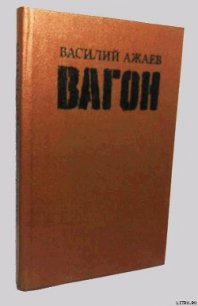Орлята (Рассказы) - Гельфандбейн Григорий Михайлович "Составитель" (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации txt) 📗
При лунном свете заблестели стремена, забренчало оружие, мягко застонала земля под копытами. И тут молодой красивый голос, хватая за душу, плеснулся, взлетая над стародавним чумацким шляхом, над вековыми липами, над притихшими полями:
Я потянулся к песне, к небу, к вечерней звезде и замер в печали и восторге, которые родил в моей детской душе чей-то голос.
Отгоревала, отзвенела песня на шляху, скрылись вдали всадники, а дед, покачав головой, вздохнул и раз, и другой, что-то тихонько сказал себе, а потом обернулся ко мне:
— Жизнь… А ведь и он, слышишь, Шевченко, босиком в школу ходил. Таким было латаное наше счастье. Завтра, внучек, если доживем, подстригу тебя, возьму за руку и пойдем в школу.
— Дедусь, это правда? — екнуло у меня сердце и дрогнул голос.
— Ну да, как сказал, так и сделаю.
— И книжку мне купите?
— И книжку купим, и чернила из бузины сделаем, и на ситцевую сорочечку расстараемся. А там, глядишь, и на сапожки разживемся, подобьем их подковками, будешь идти меж людей и выбивать искры…
— Правда? — верю и не верю, что столько счастья может выпасть одному человеку.
Охваченный благодарностью, я прижимаюсь к деду и меж звезд моего детства разыскиваю вечернюю звезду поэта, что будет мне светить всю жизнь…
Сегодня наши ворота почему-то открыты настежь.
Может, в гости кто приехал? Но ни лошади, ни воза нет ни на дворе, ни под навесом. Я подъезжаю к сарайчику, отпускаю повод, а в это время кто-то сзади сильными руками поднимает меня вверх, а потом прижимает к себе.
И страх, и радостное предчувствие сразу охватили меня, и я зажмурил глаза. А когда раскрыл их, увидел незнакомое и будто знакомое лицо и снова зажмурился.
— Михайлик, не узнаешь?! — все сильнее прижимает меня к себе высокий, широкоплечий человек с коротко подстриженными усами.
— Нет, не узнаю, — говорю тихонько, и тепло-тепло становится мне на груди у этого сильного незнакомого и будто знакомого крестьянина. — Вы откуда будете?
— Михайлик, я ж твой батько, узнавай скорее! — радуется, печалится и целует меня человек. — Ну узнал?
— Нет.
— Вот тебе и раз, — даже вздохнул он, и глаза его повлажнели.
Я узнавал и не узнавал своего отца. Словно из далекой тьмы слышался мне его голос, где-то я словно видел эти глаза, но где — не знаю. Однако хорошо было прижиматься к тому человеку, который одной рукой придерживал мои босые ноги, а другой — голову. К нам подошла улыбающаяся мать.
— Узнал? — спросила она.
— Нет.
— Михайлик, глупенький, это ж твой отец! Чего же ты молчишь?
Я не знал, что сказать, — ни одно слово не приходило в голову. Вот так меня, онемевшего, внес отец в хату, где теперь на сундуке лежала шинель, поставил на пол, осмотрел и засмеялся.
— Да он у нас просто парубок, только беда, говорить не умеет.
— Эге, не умеет! Ты еще узнаешь его, — засмеялась мать.
— Теперь уж наверное узнаю, никуда не денется. Вот я его завтра в школу поведу.
— Поведете? — встрепенулся я и заглянул в отцовские глаза.
— Ну да. Хочешь учиться?
— Ой, хочу, батько! — обхватил я отцовы ноги, а он почему-то захлопал веками и положил руку мне на голову.
Поговорить с отцом нам не дали соседи. Их сразу же набилась полная хата, на столе появились немудреные подарки в бутылках, а мать поставила на стол голубцы с новым пшеном и вяленых вьюнов, которых мы наловили еще с дедом, и полилась беседа с бесконечными пересудами про землю, политику, заграницу — пойдет или нет на нас Антанта войной. Уже задремав, я захватил в сон отцовы слова:
— Ничего у них не выгорит, ничего! Если не удержались на гриве, на хвосте не удержатся!
На другой день отец взял меня, остриженного, накупанного и одетого во все новое, за руку и повел в школу. Когда после звонка детвора горохом посыпалась из класса, отец подошел к стройной русоволосой учительнице, поздоровался с ней и, наклонив голову в мою сторону, сказал:
— Привел, Настя Васильевна, вам своего школьника. Может, и из него какой-нибудь толк будет.
— Посмотрим, — усмехнулась Настя Васильевна, и улыбнулись продолговатые ямки на ее щеках. — Как тебя звать?
— Михайлом.
— А учиться хочешь?
— Очень хочу! — так выпалил я, что учительница рассмеялась. Смех у нее приятный, мягкий и будто вверх поднимает тебя.
— Только пропустил он много, — сказала отцу.
— Все догоню, вот увидите! — вырвалось у меня, и я с мольбой посмотрел на учительницу. — Читать умею.
— Ты умеешь читать? — удивилась Настя Васильевна.
— Жинка говорила, что, правда, умеет и по всему селу выискивает книжки, — подтвердил отец.
— Это уже хорошо. А кто тебя научил читать? — поинтересовалась учительница.
— Я сам от старших школьников перенял.
— А ну, почитай нам что-нибудь. — Настя Васильевна взяла со стола книгу, полистала ее и протянула мне. — Читай вот на этой странице.
Такой страницей меня не удивишь: тут каждая буква была величиной с воробья, а мои глаза уже успели привыкнуть и к маленьким, словно мак. Я чесанул эту страницу, не спотыкаясь на точках и запятых, чтоб учительнице сразу было видно мое знание.
От такого чтения батько просветлел, а учительница удивилась и смеясь спросила:
— А быстрей ты не можешь?
— Могу и быстрей, вот дайте, — ответил я, чувствуя, что все идет хорошо.
— А медленней тоже можешь?
— И медленней могу, — удивился я, потому что зачем же делать медленней то, что можно быстро.
— Ну так прочитай, не забывая, что в книжке есть еще и знаки препинания.
И я читал, все время помня о знаках, и видел, как счастливый отец любуется своим читальщиком.
— А цифры ты знаешь? — спросила учительница.
— И цифры до тысячи знаю.
— А таблицу умножения?
— Нет, этого не знаю, — вздохнул я и увидел, как погрустнел отец.
Но учительница тут же нас так порадовала, что отец будто даже подрос, а я чуть не подпрыгнул.
— Панас Демьянович, придется вашего ученика записать во вторую группу.
— Спасибо вам, — степенно поблагодарил отец. — Пишите, если на вторую потянет.
Учительница повела меня на ту половину класса, где училась вторая группа.
— Вот тут, Михайло, будешь сидеть, — показала мне на трехместную парту. — Завтра приходи с ручкой, чернилами, карандашом, а книги я тебе сейчас дам…
Домой я не шел, а летел — во-первых, надо похвалиться, что мать сразу имеет школьника не первой, а второй группы, во-вторых, нужно сбегать в лес, нарвать ягод бузины, надрать дубовой коры, а потом сварить их с ржавчиной, чтоб завтра были те самые чернила, которыми тогда писали.
Дома нас ждали мать и дядько Микола. Когда отец сказал, что меня приняли во вторую группу, мать сразу грустно повторила свое: «И что только будет из этого ребенка?» А дядько Микола сказал: «Весь пойдет в меня — это по нам обоим же видно». И в хате стало весело, а мне и за хатой светило солнце…
Учился я хорошо, учился бы, верно, еще лучше, если б имел во что обуться.
Когда похолодало и первый ледок затянул лужи, я мчался в школу, как ошпаренный. Наверно, это и научило так бегать, что потом никто в селе не мог перегнать меня, чем я немало гордился.
Однажды, проснувшись, я увидел за окном снег, и все во мне похолодело: как же я теперь пойду в школу? В хате в то утро горевал не только я, но и мои родители. После завтрака отец надел свою кирею из грубого самодельного сукна и сказал:
— Снег не снег, а учиться надо. Пойдем, Михайлик, в школу. — Он взял меня на руки, укутал полами киреи, а на голову надел заячью шапку.
— Как же ему, горемыке, без сапог? — жалостно скривилась мать.
— Ничего, ничего, — успокоил ее отец. — Теперь такое время, что главное не в сапогах.
— А в чем?
— Теперь главное — чистая сорочка и чистая совесть, — усмехнулся отец. — Правда, Михайлик?