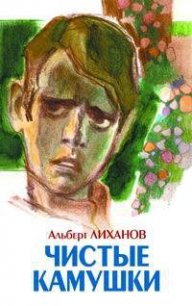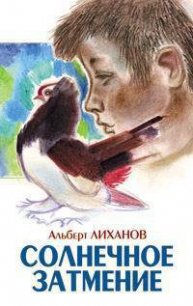Мужская школа - Лиханов Альберт Анатольевич (полная версия книги .txt) 📗
— Выскочка!
Отвечать ему было глупо! Я расхохотался издевательским смехом и пошёл вперед, навёрстывая потерянное время. Минуты через две, обернувшись, я увидел, что следом за мной идёт Сашка Кутузов, а Щепкин сильно отстаёт теперь и от него. Он будто сдался — шёл опустив голову, ни на что не глядя.
Трёшка, как мы называем дистанцию в три километра, действительно предназначалась для девочек, я проходил этот путь не меньше, чем раз двадцать, и пришёл к финишу, понятное дело, раньше всех, не только полностью успокоив дыхание к приходу следующего, Кутузова, но и перекинувшись парой фраз с Негром, который моим результатом был просто восхищён.
— Для шестого класса! — говорил он. — Это просто великолепный результат. Вот бы нам устроить первенство школы, а? Да по всем видам, а? Да таблицу школьных рекордов повесить на обозрение, как думаешь?
Я ещё ничего такого по этому поводу не думал, всё моё существо ликовало от победы над Рыжим Псом. И ещё я ждал его финиша. Как, интересно, он поглядит на меня.
Но он не поглядел.
Финишировав шестым, Щепкин прокатился мимо меня, не поинтересовавшись временем, снял лыжи и, ни на кого не глядя, пошёл домой.
Впрочем, он никому не был интересен. Кто жаловался на крепление, кто на мазь, а кто переспрашивал у Негра свой результат, выяснял, прилично это или так себе.
Что же касается меня, то каждый считал долгом мне что-нибудь сказать. Не обязательно приятное, нет, но словечко-другое непременно. Сняв лыжи и прислонившись к берёзе, я устало принимал запоздалое признание.
14
И всё же, если честно сказать, радость была во мне очень зыбким чувством. Может, это всегда так бывает, когда долго чего-то ждёшь, а когда оно наступает, это слишком долгожданное что-то, тебя уже не хватает на радость, ты пуст или же понял в какой-то миг, что труднодостижимое когда-то ты прошёл и перед тобой уже маячит действительно тяжкая цель.
Я шёл домой и будто силой надо же! — пытался растолкать себя: ну, порадуйся хоть немного, ты же Рыжему крикнул сегодня такие слова, а он проглотил как должное, значит, твоя жизнь действительно переменилась… Но отчего-то не радовалось, нет.
Наоборот, на душе было пусто, словно я что-то навсегда потерял.
Ну и ещё одна деталь ради справедливости требует уточнения. Что же, я действительно стал опытным лыжником за одну-то осень? Да ничего подобного. Я ведь уже сказал про юношеский разряд: всего-то навсего! Единственное моё достижение — я записался в секцию, может быть, самым первым из нашего класса. И не мудрая цель привела меня туда, а загнало одиночество. Изи, очереди в книжный магазин и читального зала мне не хватало, и я случайно пристал к маленькой толпе тех, кто учился бегать, прыгать, а потом гонять на лыжах. Честно говоря, это я своим ангелам-гонителям обязан победе, ведь именно они меня сюда загнали. А сами малость поотстали. Вот и всё.
Потому, наверное, и пусто было у меня на душе. Хотя я победил, и победил, как выяснилось позже, без всяких шуток, потому что пацаны наши, расслышав негромкий допрос, который учинил мне учитель физкультуры, потихоньку-помаленьку записа лись в разные секции.
Щепкин и Кутузов, к примеру, стали играть в русский хоккей, Дудников стал боксером, и, как ни странно, это окоротило его кулаки, потому что, оказалось, существуют правила боксерской чести, следуя которым невозможно избивать более слабого, да ещё просто так. Лёвка Наумкин занялся гимнастикой, Витька Ложкин беговыми коньками, Валерка Пустолетов, по-моему, классической борьбой, а про остальных я просто, за давностью лет, не помню. Так что года через два с половиной, уже в девятом, сумели всё-таки мы соединиться в одну команду, но об этом чуть позже.
Пока же я опустошенно тащился, одержав мелкую личную победку, а душа моя наполнялась новой неязбывной печалью, которой, честно говоря, не поделишься ни с кем, даже с самым закадычным другом.
О! Речь шла о материях столь деликатных и непонятных, что я не знал, как даже в мыслях к ним подступиться. И всё дело в возрасте.
Будь всё это раньше, когда я был мальчиком лет девяти, или позже года на два, на три, когда нежный пушок на щеках начинает напоминать светлые баки, тогда другое дело. Возраст, не мной замечено, — вообще-то великое благо, куда ни отмеряй, в ту или иную сторону. Кроме одного таинственно непонятного отрезка жизни, который и занимает-то года два-три, от двенадцати до четырнадцати, а неприятностей оставляет целую тучу. Это отрочество.
Уже не мальчик, но ещё не юноша, человек в эти годы похож на рассеченную, глубокую, незаживающую рану. Он жаждет, чтобы с ним говорили всерьёз, как со взрослым, а ему ещё приказывают, точно малышу.1 Он мечтает о поощрении, но лишь редкий удостаивается его, потому что это годы самого трудного приспосабливания к жизни, когда ломаются детские представления, а взрослые ещё не окрепли. Он требует, чтобы его слышали, но окружающие торопливы или нетерпеливы, и его душа запирается на замок. Он достоин внимания, но близкие всё-таки не считают его уже ребёнком и требуют соответствия не выработанным им правилам, что означает взаимное непонимание.
Полный жажды любви, человек в эти годы ненавидит себя и, не встречая интереса или важного дела, восстаёт против всего мира. Потому отрочество не терпит мира взрослых, а взрослые так легко и глупо покрывают своё непонимание козырем уничтожающей пощечины или убивающей брани.
Мосты в эту пору сгорают — миллионы мостов между родителями и детьми, между самыми дорогими и самыми единственными. И взгляды на эти мосты так непохожи с разных берегов. Взрослые ослеплены, например, двойкой, например, табачным духом, например, пьяной несуразицей дорогого чада, например, его грубым, таким недетским непослушанием. Да, взрослые слепы, и отроки в одиночку разглядывают, как шипят головешки сгорающих мостов, падая в воду. А им так нужно, чтобы хоть пожар этот видели с той, другой, стороны
Сразу замечу, у меня было не так. У меня было легче, потому что я знаю Изю, Кимку и уехавшего в Ленинград доброго каперанга. И всё же у меня было, было…
Одним словом, в один прекрасный, ничего дурного не предвещавший миг меня озарила леденящая догадка: мама ждёт ребёнка!
Вот так и бывает: живёт себе человек, живёт, не без трудностей, конечно, уж как водится, но едет себе по своей дороге, то увязнет, то вылезет, и вдруг — ба-бах! — ему дубиной по голове! И кто? Родители!
В нынешнем своем очень взрослом возрасте я даже не берусь детально воспроизвести бурю одолевших меня чувствований.
Ну, во-первых, я был глубоко оскорблён: почему это не спросили меня, или я не в состоянии понимать такие вещи? (Конечно нет!) Далее, я чувствовал свою никомуненужность: значит, им меня не хватает, надо ещё кого-то, кто вообще займёт теперь всю их жизнь! (Недостаточность ребёнка, выросшего в одиночестве.)
И наконец, самое гадкое и продиктованное только исключительно отрочеством: значит, у мамы и отца есть неизвестная мне, интимная жизнь, фу, как мерзко! (А это недостаток образования, бьющий подростка головой о бетонную стенку; лучше, если бы он не просто предполагал или догадывался, а знал обо всём этом ещё с первых классов от мамы или учительницы но в наши годы такое даже не предполагалось. Хотя, я думаю, мужские и женские школы именно в эти тонкости должны бы были посвящать детей. Но не посвящали, и тут есть от чего опешить.)
Да, да, странный смысл разделения детей в мужские и женские школы, оказывается, в том и был, чтобы дети как можно меньше знали про азы взаимоотношений мужчин и женщин, чтобы все эти подробности были полностью вынесены за пределы школы а уж выйдут из неё, это их дело, у кого, как и что получится.
Впрочем, взрослый мир избегал этих тем не менее старательно, чем школа, и это не было пуританство! Это была новая мораль, в которой ни о чём таком не говорят, не пишут, не думают, а где-то там, в брачных потёмках, просто рожают детей, прибавляют население, которое должно сначала просто бездумно расти, потом отлично учиться, а затем старательно работать и счастливо жить. Подробности тщательно опускались.