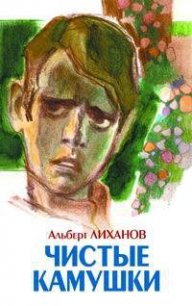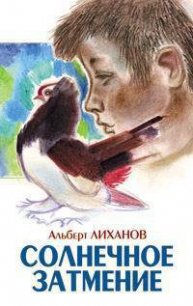Мужская школа - Лиханов Альберт Анатольевич (полная версия книги .txt) 📗
Когда шли домой через замёрзшую реку, поднялся сильный ветер с позёмкой. Лицо больно колол снег, самую середину реки мы шли спиной вперед, но все смеялись, ржали друг над другом и просто так, и, наклоняя тело навстречу секущему ветру, я представил себя мужественным полярником. А в душе пело: «Разряд! Надо же, настоящий разряд!» Дома я сообщил о своей победе с порога, но мама будто совершенно ничего не поняла.
Посмотри, говорила она, на кого ты похож. Так же можно и обморозиться!
В зеркале отразилось несуразное существо с лицом и руками свекольного цвета и правда мало похожее на победителя.
Но я был победителем, самым настоящим. Правда, об этом пока никто не знал. Даже я сам.
12
Школьная жизнь тем временем, когда со мной происходили столь исторические перемены, тянулась заунывно медлительно и однообразно.
Прошла мода на жёстку, редко кто подпинывал пушистый хвостик где-нибудь в углу жизнь вообще как-то вдруг стала строжать, что ли. Жёстки отнимали учителя, родителей вызывали по всякому пустяку, и, похоже, здорово их пробирали учителя, потому что я не раз видел краткие родительские расправы возле школы со своими неразумными детьми.

Выглядело это всякий раз по-своему, но чаще мать лупцевала сумкой своё дитя, а то, подвывая, норовило повернуться задом, чтобы было не так уж больно. Разок я видел, как один папаня лупил своего семиклассника, ухватившись за рукав его хилого пальтеца, прямо валенком по костлявым мослам, собралась значительная толпа, и парень без шапки орал, ненавидя родителя: «Отвались! Отвались!» пока несчастный рукав с треском не оторвался. Похоже, что поcле убийства Коряги школа принялась всеми доступными ей методами пробуждать у родителей беспокойство за своих сынов. Однако любая кампания, объявленная с самыми благими целями, склонна как можно скорее достичь желанного результата, — да вот это-то и приводит к противоположному результату. Никого из детей не сделал лучше учительский донос их родителям в какой бы педагогически необходимой форме этот донос ни происходил: родители ненавидели своих детей, дети — учителей, а учителя этот безотказный аргумент всегда при них винили родителей за неумение воспитать своё чадо.
Прибавим к этому, что нелюбовь рождает страх, а страх ещё не сотворил ничего доброго, кроме лжи и лицемерия. Так что незаметно, но вполне определённо в школе укрепилось нечто новое: запрет на шалость, немедленное желание самую невинную детскую проделку расценить как серьёзный проступок, ведущий к опасным последствиям.
Похоже, где-то там высоко, в невидимых нам заоблачных далях, нашу школу громко трепали, квалифицируя её как гнездовье «чёрных кошек», мудрый Эсэн зашатался, да и без этого его шатанья кто-то там, видать, брал в ежовые рукавицы наше заведение, потому что то в учительской, то в маленьком нашем спортзале шли беспрерывные собрания учителей с присутствием и речами каких-то пришлых, нам незнакомых мужчин и женщин, после чего воспитатели расходились побледневшие и молчаливые. А наш брат получал родительские затрещины.
Странное дело, это помогало.
Ведь страх, ложь, лицемерие — качества чаще всего невидимые. А дисциплина и порядок очень даже заметны.
Из кабинета в кабинет нас стали переводить парами, строем, и поначалу народ роптал, принимая такие нравы, как прямое попрание свобод. Но лишь роптал, всё-таки подчиняясь, потому что иначе дело приходилось иметь с родителями. Здорово их включили, бедняг! Похоже, дела самых непослушных деток разбирались аж у родителей на работе. Ходили слухи, что папаша шалопая Кислухина из восьмого «б» уложил деточку в нокаут, вернувшись с партийного заседания, отчего шалопай полную неделю отсутствовал на уроках, а вернулся с зелёным полукружьем под правым глазом. Похоже, папаша был левша.
Теперь, задним числом думая о мужской школе, мне кажется, что одним из замыслов их возникновения — а ведь на мужские и женские школы поделили в начале войны была мысль об ужесточении контроля за растущим поколением. Школы смешанные, где мальчики и девочки учатся вместе, уже в силу только этого обстоятельства делают поколение ну как бы дряблым, что ли. Мальчики заимствуют что-то от девочек, какие-то возникают, видите ли, ненужные чувства, там жалость, прощение боже мой. Пусть уж лучше девочки растут сами по себе со своими бантиками и слезами, в конце концов не они главные силы неповиновения и смуты, а будущая мужская часть общества, вот и надо, чтобы она росла именно в мужских школах, ещё лучше при присмотре мужчин, без сантиментов, в духе строгого, а главное, раннего понимания мужской ответственности за общее будущее. В конце концов, в мужской школе легче завинтить болты, навести порядок и получить нужный, выполняющий поставленные требования продукт.
Так примерно выглядела философия мужской школы, припудренная, конечно же, словесами о благих целях, о враждебном окружении, в котором живёт страна, о повышенной ответственности учителей за воспитание учащихся и строительство социализма.
Словом, теория нежданно обернулась в практику, смерть бедного Коряги перевернула учителей, неловкая Зоя Петровна совсем сникла с лица, смотрела на нас растерянно, словно искала защиты.
Любопытно, что наш-то бандитский класс как раз родительские затрещины и миновали. Похоже, болты заворачивали вокруг нас, а к нам лишь внимательно присматривались. Смехота, наш класс даже изучали, полагая, что кроме Коряги у нас есть ещё какое-то число неблагонадёжных граждан несовершеннолетнего возраста, за которыми нужен глаз да глаз.
Происходило это так: шёл какой-нибудь урок, и вдруг дверь открывалась, в класс входили какие-то неизвестные нам люди, топоча ногами, проходили к задним партам и со скрипом усаживались за них. После неловкой заминки урок продолжался, но весьма судорожно и без всяких, понятное дело, успехов. Простите за грубое сравнение, но всё это походило, как если бы кто-нибудь зашёл в туалет понаблюдать за вами во время самых серьёзных занятий.
А оказывается, нас потом в директорском кабинете разбирали поштучно кто есть кто, и кто из какой семьи, и есть ли в семье члены партии, и нет ли в доме у старших каких-нибудь зловредных наклонностей?
Наша несчастная Мыло была скована печатью взрослых обязательств, дрожала и молчала, но зато однажды в класс пришёл Бегемот Тетёркин и изъяснился.
Явился он весьма необычно, в самом конце какого-то урока, когда предыдущий учитель уже выходил и мы стояли в низком старте, чтобы рвануть на свободу.
В руках он держал щётку, ухмылялся, протягивал к нам ладонь, как бы возвращая на свои места.
Потом он сунул щётку в ручку двери, чтобы никто не ворвался старый школьный прием и позвал нас в район «Камчатки».
Слушайте, мужики, сказал математик своим густющим басом, вы что, ничего не замечаете?
— Нет! — забазлал народ. — А чего?
Ну, вы же свою классную губите, сказал он, вынимая свой знаменитый платок и трубно сморкаясь. — И всю школу.
Он измерил нас поверх очков, для чего слегка наклонил вперёд голову будто кланялся.
Уроков ни хрена не учите, тащитесь едва-едва, а тут с этой уголовщиной школе покоя нет. Корягина я жалею, но скажите, разве бы школа его спасла? — Он помолчал, покрякал. Его как-то по-другому спасать надо было, увозить отсюда, что ли, да ведь какое сейчас время!
Мы сидели понурясь, и мне казалось, тяжёлая птица взрослость садится нам на плечи.
А что они все тут ходят, вынюхивают? спросил Лёвка Наумкин.
Вот, вот, — схватился учитель, — плохо дело-то, ребята. Эсэн, директор, значит, на волоске, ну и классная ваша тоже. Взялись бы вы за дело, а? Ну придёт какой-нибудь цербер, ни вам, ни нам житья не будет.
Он сунул платок в карман, пошёл к двери, вынул щётку й, постукивая ею, как Дед Мороз своим посохом, пошёл по коридору.
Перемена шумела и возилась, но каким-то новым, притушенным шумом и какой-то иной, опасливой вознёй.