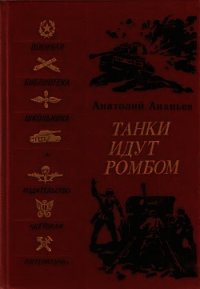Со щитом и на щите - Димаров Анатолий (читаемые книги читать .TXT) 📗
Наша рота заняла оборону на левом берегу Днестра, в небольшом селе Садковцы. Село и вправду утопало в садах. Фруктовые деревья сбегали к самой речке, к извилистой линии траншей, выкопанных до нас какой-то другой частью. По ту сторону круто высился правый берег. Он был покрыт густым лесом, и как мы ни всматривались — не заметили ни одного немца. Враг то ли еще не подошел, то ли так хитро маскировался, что берег казался абсолютно безлюдным.
Мы отсыпались.
Спали прямо на траве, подложив под головы плащ-палатки. Спали так крепко, что если бы в самом деле подошли немцы и сумели переправиться через реку, то могли бы взять нас голыми руками. Но и немцы, пожалуй, тоже отсыпались, так как на том берегу никакого движения не было заметно. Единственным открытым пространством, которое просматривалось с нашей стороны, было подворье монастыря, и мы, трое связных, ежедневно отправлялись на наблюдательный пункт — следить, не появятся ли там немцы. Это был неглубокий окопчик, вырытый на яру. В течение дня мы торчали в нем идеальными мишенями, но немцы почему-то нас не перестреляли; должно быть, их такой наблюдательный пункт на нашей стороне вполне устраивал. Тем более что у нас даже бинокля не было (командир роты свой боялся нам доверить), так что приходилось полагаться лишь на собственное зрение.
Каждый раз, возвращаясь с наблюдательного пункта, мы подходили к командиру роты, печатая шаг, лихо козыряли и громко, так, что даже на том берегу, пожалуй, было слышно, докладывали, что враг но обнаружен. Капитан слушал внимательно и строго, потом командовал: «Вольно!» — и мы расслаблялись с чувством честно выполненного долга. Теперь можно было прислонить к вишне винтовку, напиться холодной колодезной воды, остудить в тени обгоревшее тело. Война начинала казаться нам обыкновенными маневрами, где «красные» воевали с «синими» и «красные» обязательно побеждали (иначе они не были бы «красными»), где «убитые» и «раненые» спокойненько отходили в сторонку и с нетерпением ждали кухню. Пока живые довоюют, «убитые» уже и сливки снимут, и лежат в холодочке, блаженно подремывая.
Так мы играли в войну почти неделю, а потом штаб полка приказал послать на тот берег разведку, и командир роты выделил десять бойцов во главе с сержантом. Разведчики переправлялись перед рассветом, и я впервые подумал, что все эти хлопцы могут и не вернуться назад. Командир роты, наклонившись с берега, что-то тихо говорил сержанту — давал, по всей видимости, последние напутствия, — я же смотрел на съежившиеся фигуры, жавшиеся друг к друг в двух надувных лодках, и мне уже казалось, что на том берегу только и ждут, когда они отплывут на середину. Поэтому, когда сержант, козырнув в последний раз, оттолкнулся от берега, я весь напрягся в ожидании выстрелов с того берега.
Однако то ли враг крепко спал, то ли его вообще не было, — берег молчал, словно вымер. Лодки плыли и плыли, тускло взблескивая короткими веслами, пока не уткнулись в густые заросли ивняка.
Вскоре оттуда послышалось кряканье утки: условный сигнал, что все в порядке, и над нашими застывшими напряженно окопами прокатился радостный гомон.
Приказав докладывать о любом движении на том берегу, наш капитан отправился к себе. Он очень тревожился за успех разведки. Ведь для него, как и для каждого из нас, это была первая боевая операция, и потому, заметно нервничая, он то и дело гонял меня во взвод — узнать, не слышно ли там чего. Я мчался кратчайшим путем вниз и спрашивал у лейтенанта, не слышно ли чего-либо. Он отвечал, что ничего нет. И чем чаще я к нему прибегал, тем неприветливое он меня встречал. Получалось, будто я был виноват в том, что разведчики как сквозь землю провалились.
Наконец где-то после обеда на той стороне, глубоко в лесу, поднялась частая стрельба. Она то распадалась на одиночные выстрелы, то сливалась в сплошной клубок, и клубок этот катился вниз, все ближе и ближе к берегу. Вот уже ударили наши пулеметы, затрещали нервно и торопливо наши винтовки. Командир роты сорвался с места как ошпаренный и, придерживая рукой планшет, помчался что есть духу вниз. Следом побежал политрук, а за политруком мы, трое связных.
Стрельба разгоралась все больше, нам уже казалось, что немцы перешли в атаку, хотя теперь стреляли только с нашего берега, а на том все затихло.
Когда мы добежали до траншей, стрельба уже утихла. Лишь иногда то тут, то там срывался нервный выстрел, вслед которому несся сердитый оклик: «Отставить!» — и затаивалась виноватая тишина. Над траншеями колыхался сизоватый дымок. Он стекал вниз, к воде, и из окопов выглядывали возбужденные, красные лица бойцов. Не прыгая даже в траншею, комроты побежал к взводному, а мы спешили за ним и казались сами себе неимоверными смельчаками, которые не привыкли кланяться нулям.
Лейтенант, высунувшись по пояс из окопа, смотрел не на капитана, а на реку. И помкомвзвода смотрел туда же, и все бойцы поблизости тоже. Что-то настолько тревожно-выжидательное, до предела напряженное было в этом молчаливом созерцании, что и мы остановились и тоже стали смотреть в том направлении.
Речка мерцала, блестела, горела. Нещадное летнее солнце высвечивало ее всю, до мельчайшей ряби. И по этой сверкающей поверхности, раз за разом вспыхивая поспешными движениями весел, плыли обе наши лодки. Согнутые фигуры бойцов чернели, словно угли, а на борту передней лодки виднелось что-то резко белое. Когда разведчики наконец приблизились к берегу, мы поняли, что это белело: на дне лодки, положив забинтованные ноги на борт, лежал один из бойцов. Лицо его было желтым и осунувшимся, а глаза воспаленными, как у тяжелобольного.
Передав нам раненого, разведчики вмиг оказались на берегу. Они так торопились покинуть лодки, что едва их не утопили, и все оглядывались на противоположный берег. Сержант начал было докладывать капитану, но тот досадливо махнул рукой: вид раненого произвел на него такое же гнетущее впечатление, как и на всех нас. Поэтому он приказал немедленно нести бойца к командному пункту.
Это был первый раненый, и мы не знали, как к нему подступиться. Неловко топтались вокруг, пока кто-то не догадался расстелить плащ-палатку и положить на нее раненого. Сбившись беспорядочной гурьбой, мешая друг другу, мы понесли его вверх. Он раскачивался, как в зеленой люльке, его забинтованные ноги болтались то в одну сторону, то в другую. Ему было, наверно, очень больно, вскоре он не выдержал, начал стонать. И чем громче он стонал, тем быстрее мы бежали в гору. Нам казалось, что он умирает, и мы старались донести его хотя бы до командного пункта живым.
Наконец опустили его на траву в тени вишни. Сразу же прибежал санинструктор и поверх бинтов, которыми уже были обмотаны ноги раненого, стал накладывать свои, будто опасался, что имевшихся до санбата не хватит. После этого мы напоили раненого водой. Он затих, а командир роты сказал, что вот-вот подъедет подвода и отвезет его в санбат.
Только после этого капитан повернулся к сержанту. Тот снова вытянулся в струнку, начал докладывать. Лицо его пылало от возбуждения…
Высадившись на том берегу, они стали взбираться вверх. В густых зарослях, где пересохшие сучья громко трещали, они медленно пробирались, преодолевая эту стометровую полосу чуть ли не час. Потом стало полегче. Они перебегали от дерева к дереву, все время вели наблюдение, но немцев не было, как сквозь землю провалились, хотя повсюду было натоптано и они даже нашли пустую пачку от чужеземных сигарет…
Тут сержант полез в карман и достал ярко разукрашенную картонную пачку. Капитан внимательно рассмотрел ее, понюхал, передал политруку. Тот тоже осмотрел ее со всех сторон и понюхал, но нам не передал, хотя нам тоже хотелось понюхать, чем это пахнет.
Наконец они увидели немцев, продолжал сержант. На поляне, вблизи монастыря. Раздевшись до трусов, немцы загорали на солнце, а одежда и оружие лежали, небрежно разбросанные, рядом. Трое дремали, четвертый лежал на спине и наигрывал на губной гармошке. Подкравшись к поляне, сержант приказал примкнуть штыки, и с криком «ура!» они атаковали немцев.