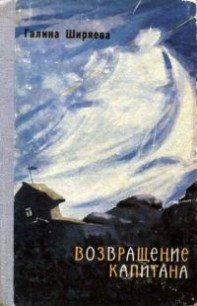Утренний иней - Ширяева Галина Даниловна (книги онлайн .TXT) 📗
Обычно, к приходу матери, к трем часам, Настя была уже дома. Мать работала, как она сама говорила, «полулаборанткой» в какой-то лаборатории со сложным названием, хотя когда-то закончила университет и получила диплом инженера. «Из меня такой же инженер, — говорила она шутя, — как из нашей бабки царица Клеопатра». О какой бабке она так неуважительно говорила — о родной или неродной — Настя не знала. Не знала и не стала спрашивать. Вообще она здесь, в этой квартире с необыкновенной мебелью, с необыкновенными кремовыми шторами на окнах, похожими на медовые реки, которые снились ей тогда в бреду, больше молчала. Отношения с матерью почему-то никак не налаживались. Наверно, что-то было утеряно ими обеими за эти годы, что жили они врозь, и теперь утерянное пропало безвозвратно. На отчима же Настя смотрела как на главного виновника этой пропажи. Да и он сам, помня, наверное, о былой Настиной враждебности к нему, сторонился ее, иногда только улыбался ей. И тоже молчал. А с матерью разговор не получался.
— Настенька! Ну что там у вас в школе? Интересное было что-нибудь?
— Нет.
— А двоек много получила нынче?
— Нет.
— А троек?
— Нет.
— А четверок?
— Нет.
— Выходит, ты у меня только одни пятерки получаешь?
— Нет.
— А ты можешь сказать что-нибудь другое, кроме этого «нет»? Нет? Ну ладно, давай посмотрю дневник.
Но Настя видела, что матери скучно читать и смотреть ее чистенький, без единой помарки дневник. Мать и сама как-то сказала, что дневник этот навевает на нее унылые школьные воспоминания. Вот бывает, оказывается, и так — никаких добрых воспоминаний о школе у нее не осталось, не сохранилось. Ни о школе, ни об учителях. А Настя так тосковала по своему Каменску… «Вообще, Настенька, насколько я помню, в нашем классе были одни зубрилы. Помню — зубрят, зубрят. Ты уменя тоже зубрила, Настенька? А?» Мать поднимала на нее красивые синие глаза в черных ресницах, таких черных, что казалось — они накрашены. Однако такими они были на самом деле. Настя это знала, у нее у самой были такие же ресницы.
— Ты у меня зубрила, Асенька?
— Нет.
— Господи! Опять! И что вы там с дедом не поделили?
В этой последней фразе Настя явственно уловила досаду: вот, не было раньше забот у матери, а теперь не поладила Настя с дедом, и появились заботы. Но мать всегда была ласкова с ней. И отчим улыбался.
В улыбке его Насте порой чудилось что-то заискивающее. Ей было жалко его, но полюбить его она не могла, не имела права. И это бесправие мучило ее ничуть не меньше, чем тоска по Каменску. Она чувствовала — отчим хочет понравиться Насте, чтобы угодить матери. Но это ему не удавалось, и мать раздражали порой они оба — и он и Настя.
Теперь, когда прошли несколько лет вдали от него (мать приезжала летом в Дубовское, он — никогда), Насте он стал казаться немного другим человеком, не тем, которого она так невзлюбила в раннем детстве. Он был всегда рассеян, словно озабочен чем-то. Лицо его с крупными чертами, с большим лбом и маленькой светлой бородкой было часто очень грустным. И вообще он казался ей теперь довольно добрым человеком. Но она все равно не могла полюбить его — ведь это был не родной отец. Временами ей казалось, что и мать его не любит, слишком часто он раздражал ее без всякой причины.
Настя знала, что он преподает в университете, но мать почему-то относилась к его работе с неуважением, даже с неприязнью. «Мой отец без всяких университетов меня на всю жизнь обеспечил, — бросила она ему как-то при Насте. — А всю жизнь на мелкой работе и ни у кого нахлебником не был…» Может быть, потому отчим был таким озабоченным и грустным? А ведь этого не было раньше. Не было, конечно! Если бы было, никогда, наверное, не сказал бы отчим матери тех слов, после которых Настя когда-то его невзлюбила… «У тебя королевские волосы», — сказал он и дотронулся до пышных светло-золотых, как корона, волос матери. Раньше только одна Настя касалась материнских волос — перебирала их, заплетала в косы, укладывала в прическу. Это были ее королевские владения.
Волосы матери были по-прежнему королевскими, хотя теперь она их подкрашивала. Только Настя теперь уже не перебирала их, как раньше, не укладывала в прическу, не заплетала в косы. Что-то ушло, ушло безвозвратно. И она тосковала по этому ушедшему, тосковала по Дубовскому, по Миловановке, по Каменскому интернату, тосковала по материнским волосам, даже по своей былой враждебности к отчиму, которой теперь почему-то уже не было, хотя Настя и старалась изо всех сил вернуть ее. Может быть, у нее был плохой характер? Все очень просто! Может быть, она — очень злой человеке тогда прав Каменский интернат, отвернувшийся от нее.
Новая Настина школа стояла на углу двух улиц, за ней находился небольшой пришкольный участок, где росли только кусты акации и несколько вязов, а дальше, за оградой» снова тянулась улица с высокими домами. Насте не хватало здесь того простора, который открывался из окон Каменского интерната, не хватало леса, не хватало даже того оврага с его последней глубиной. Единственной, совсем неожиданной для нее радостью — если это можно было считать радостью — было то, что на пятый или шестой день своего пребывания в новой школе, бродя после уроков по пустому коридору третьего этажа, увидела она выходившую из класса с табличкой на двери: «Седьмой «А» класс» свою старую знакомую, девочку с музыкальным, поющим именем, так бесцеремонно и беспечно заставившую Настю сидеть на старом пеньке до ночи, — Виолетту.
Виолетта ее не заметила. Она шла задумавшись и что-то тихонько шептала. За ней шла черноглазая, чернобровая толстая девочка и говорила, возмущенно размахивая пухлыми руками:
— Вообще-то это безобразие — троечникам давать главные роли! Сколько же можно — Копейкина, Копейкина, Копейкина! Про «Ревизора» слыхала?
— При чем здесь ревизор? Не мешай, я роль учу.
— А при том, что старшеклассники собираются «Ревизора» ставить, и Копейкиной опять главную роль дают!
— Хлестакова?
— Не придирайся к словам!
— Протестуй, Нинуля! Протестуй! Я поддержу! Мне твоя Тамара Ивановна надоела по уши!
Настя обрадовалась, что Виолетта ее не заметила, потому что не была готова к этой встрече. Обиды на Виолетту у нее не было. Эта девочка с поющим именем, с такими добрыми глазами, с веселыми ямочками на щеках не могла сделать что-то плохое, и, если не вернулась тогда в интернат, значит, случилось что-то такое, что помешало ей вернуться. Может быть, ей и самой в те минуты нужна была чья-нибудь помощь. Теперь же, судя по ее по-прежнему поющему лицу и веселым глазам, в помощи она уже не нуждалась. Вот почему Настя и не подошла к ней. А еще не подошла она к ней потому, что боялась узнать от нее что-то об Евфалии Николаевне. Вдруг и в самом деле Виолетта знает, где она, куда уехала. И что же тогда?.. Она не хотела признаваться себе в том, что боится встречи с Евфалией Николаевной ничуть не меньше, чем встречи с дедом Семеном. Тоскуя по Каменску, она все-таки боялась возвращения в прошлое, в тот метельный зимний день, когда Евфалия Николаевна, отведя взгляд от снежной пелены за окном, посмотрела на нее темиглазами. «Прости меня, Настя…»
Вот почему Настя не подходила к Виолетте и даже пряталась от нее, хотя видела ее часто — и на переменах, и после уроков в раздевалке, и даже на репетиции драмкружка, устроившись незаметно в уголке полутемного зала, куда приходила иногда тайком посмотреть, как репетируют новогодний спектакль.
Ведущая кружка, ее классная руководительница Тамара Ивановна, веселая, маленькая и рыжая, почему-то напоминала ей Евфалию Николаевну. Это было очень странно, потому что ничего общего между ними не было, совершенно не было. Разве только седина в волосах. И все-таки Настя, глядя на Тамару Ивановну, каждый раз почему-то вспоминала Евфалию Николаевну.
— Ковалева! Мы знаем, что ты мужественный человек! Но нельзя все-таки метлу держать, как автомат. Ты — Яга, а не воин! Боевого шлема на тебе, между прочим, тоже не будет…