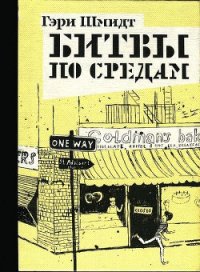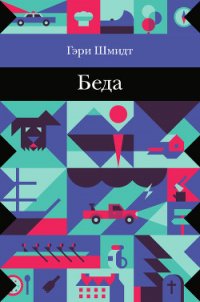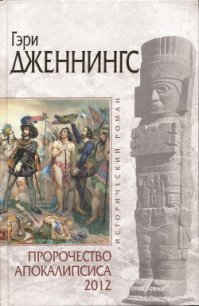Пока нормально - Шмидт Гэри (список книг TXT) 📗
– Где мы? – спросил он.
– В Нью-Йорке, – сказал я.
Он поднял лицо к небу. На него светило яркое холодное солнце, но он его не видел. Вместо того чтобы смотреть, он нюхал.
А после этого он повернул голову, потому что услышал то, что вдруг услышали и все мы.
На нас надвигалась антивоенная демонстрация – люди несли плакаты с надписями, с которых как будто капала кровь, скандировали разные лозунги, кричали в рупоры и вообще выглядели примерно как охотник, шагающий по горизонтали к точке пересечения диагоналей, то есть туда, где стояли мы с коляской. Когда передние нас увидели, они хотели притормозить, но задние напирали, и поэтому они только немножко расступились и стали обтекать нас, точно камень в реке. И знаете, что они сказали, когда увидели моего брата в военной форме, сидящего в коляске с бинтами на глазах и обрубками вместо ног? Знаете, что?
Они сказали, что он получил по заслугам.
Они сказали, так ему и надо, что он остался без глаз.
Они сказали, так ему и надо, что он остался без ног.
Они сказали, он получил то, что сам делал с вьетнамскими детьми, и как ему это нравится?
Они сказали, вот что бывает, когда идешь на поводу у фашистских свиней.
Мать пыталась встать перед Лукасом, но толпа была такая густая и так сдавила нас с обеих сторон, что у матери не получалось обойти коляску. Тогда она оглянулась на отца, и он пролез мимо нее и заслонил Лукаса, который все это время сидел с поднятой головой и никуда ее не поворачивал. Он не шелохнулся, даже когда кто-то в него плюнул. И ничего не сказал. Просто сидел и слушал – а что он еще мог сделать?
Знаете, что при этом чувствуешь?
Примерно то же самое ты чувствуешь, когда директор Питти говорит, что всем учителям, всем до последнего, наплевать на твои проблемы с высокой колокольни, потому что они все махнули на тебя рукой уже давным-давно – а если точнее, с того самого дня, как ты пришел к ним в школу.
Вот что при этом чувствуешь.
Наверное, все это продолжалось всего несколько минут, хотя нам показалось, что гораздо дольше. А когда толпа наконец поредела и последний противник войны высказал Лукасу, что он о нем думает, мы вернулись к пикапу и отец завел его, пока мы с матерью помогали Лукасу перебраться из коляски в машину, а после отец выругался, потому что ему пришлось выйти, чтобы мать могла залезть в машину через сиденье водителя. Я сел сзади и затащил туда же коляску. Она была тяжелей, чем я ожидал, и мне пришлось затаскивать ее очень осторожно, потому что отец дал мне понять, как сильно он огорчится, если эта штуковина попортит ему кузов.
Я положил коляску набок и облокотился на нее, чтобы она не болталась туда-сюда по дороге из Манхэттена обратно в Мэрисвилл, в наш дом, которого мой брат никогда не видел. А может быть, и не увидит.
Хоть и нельзя сказать, что это будет для него большая потеря.
Дорога была долгая, и вы сами можете себе представить, как успели замерзнуть мы все и особенно один из нас. И каждый раз, когда мы подскакивали на ухабе и от рессор нашего тупого пикапа не было никакого толку, я думал о том, как больно из-за этого Лукасу.
Наверное, очень больно.
Когда мы приехали, отец вылез и пошел в дом. Я спустил коляску через борт, выскочил и открыл дверцу. Лицо у Лукаса было довольно мрачное. Думаете, я вру? Мать только что плакала, поэтому и у нее лицо было довольно мрачное. Я плохо представлял себе, как вынуть Лукаса из машины, да еще так, чтобы опять не сделать ему больно. Похоже, он и сам про это думал, потому что сказал: «Дуг, если ты подкатишь эту штуку поближе, может, я смогу как-нибудь туда свалиться». И только через пару секунд я сообразил, что он шутит, – хотя, вообще-то, в том, что у вас нет ног, смешного мало.
Потом дверь нашего дома вдруг открылась, и я подумал, уж не отец ли вернулся, чтобы нам помочь. Но нет. Это был мой брат. Он посмотрел на меня, а потом заглянул в пикап, к матери и Лукасу.
– Лукас, – сказал он.
– Привет, – ответил Лукас.
Брат снова посмотрел на меня, а потом сунулся в пикап.
– Скажи, если будет больно, – попросил он и взял Лукаса в охапку, и Лукас обнял его рукой за шею, и брат вынул его из машины, как будто ему это ничего не стоило, и посадил в коляску.
– Спасибо, братишка, – сказал Лукас.
И мой брат – мой брат Кристофер – ответил ему:
– Пожалуйста, Лукас. Всегда готов, ты только скажи.
Потом мы закатили Лукаса в Дыру, и отец спросил, как, интересно, мы собираемся втащить его наверх в коляске, и Кристофер сказал:
– Мы уже все придумали.
И Лукас улыбнулся – опять той же самой улыбкой.
На следующей неделе я честно старался ничего не откалывать на секции волейбола. Хотя вы должны признать, что волейбол не такой уж интересный вид спорта. Что-то не помню, чтобы Джим Маккей [7] воспевал радость победы в каком-нибудь волейбольном матче. Шлепать по мячику, чтобы он перелетел через сетку, – ну и какой в этом смысл?
Вот почему никто не запоминает волейбольную статистику.
Но я честно старался ничего не откалывать. И на секции борьбы тоже старался – не настолько, чтобы бороться по-настоящему, но достаточно для того, чтобы пару минут попыхтеть на мате, а не просто топтаться друг вокруг дружки. Тем более что Так Называемый Учитель Физкультуры не забывал напоминать, что каждый топтун будет получать от него очередную жирную единицу – вторую, и третью, и четвертую.
И я ни словом не выразил своего удивления тем, как здорово он умеет считать. Сами понимаете почему. Кое-что я все-таки усвоил.
Я даже не жаловался, что меня вообще заставили ходить на дополнительные уроки, хотя причина для этого была – ведь вы, наверное, обратили внимание на то, что Джеймса Рассела и Отиса Боттома никто туда не отправлял, хотя они тоже пропустили чуть ли не всю секцию борьбы. Ну и что? Что с того? Если Так Называемый Учитель Физкультуры хочет быть самым большим уродом на свете, что я могу поделать? Если он хочет орать сержантским голосом, что я могу поделать?
Но вы, наверное, сможете меня понять, если я расскажу вам, что когда Так Называемый Учитель Физкультуры заорал во время волейбола, что я должен отбивать мячи нормально, а не как маменькин сынок, – вы сможете понять, почему я схватил волейбольный мяч и чуть не запустил им изо всех сил в его ухмыляющуюся физиономию, но сдержался – а это было нелегко. Думаете, я вру? Я крикнул ему, чтобы он замолчал, просто замолчал, но он все ухмылялся и сказал, что я никогда не брошу в него мяч, поскольку знаю, что тогда со мной будет и как расстроится моя мамочка, а разве мне хочется ее расстроить?
Я чуть его не бросил.
Чуть.
Но не бросил.
Я улыбнулся – той улыбкой, какая нравится Лил Спайсер. Потом снял футболку и кинул на скамью. Потом вернулся и подал этот тупой мяч через эту тупую сетку. Ладонью, как полагается.
Вот наша тогдашняя игра в цифрах:
Я не помню. Моя команда проиграла. Это же волейбол. Кому какая разница? Не могу сказать, что в полной мере испытал горечь поражения. То, что я испытал, было гораздо лучше.
Зато потом, всю неделю, Так Называемый Тренер Физкультуры больше не повторял, что сказал в тот день. Правда, во вторник, на борьбе, он заставил троих учеников весь урок бегать вверх-вниз по скамейкам для зрителей, потому что они плохо старались. Угадайте, кто был одним из этих троих. А позже, на волейболе, заставил двоих оттирать с пола грязь старыми теннисными мячами. Угадайте, кто был одним из этих двоих.
В среду, на борьбе, он заставил двоих учеников весь урок бегать по скамейкам вверх-вниз, потому что они плохо старались. Угадайте, кто был одним из этих двоих. А на волейболе мне пришлось оттирать все пятнышки, которые я пропустил на своей половине зала.
В четверг он наконец заставил четверых учеников помыть залитые потом маты для борьбы. Угадайте, кто был одним из этих четверых. На волейболе он сказал еще четверым, чтобы они встали посреди зала и пытались отбивать мячи, которые остальные будут гасить в их сторону. Мы должны были за ними нырять. Знаете, что это такое – нырять на пол спортзала сорок три минуты подряд?
7
Джим Маккей – знаменитый спортивный тележурналист того времени.