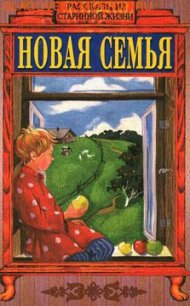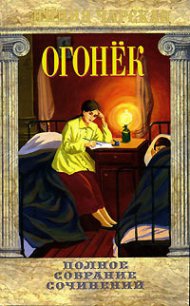Лишний рот - Чарская Лидия Алексеевна (чтение книг TXT) 📗
— Довольно, довольно, уши вянут слушать, что вы говорите, сестрица. Пойдем к покойнице, Василий! — решительно заявил отец Паисий мальчику, который через силу проглотил кусок ситного и запил его чаем.
Мальчик, испуганный и встревоженный только что слышанным разговором, стремительно вскочил с места и, не поднимая глаз, бросился следом за отцом Паисием к двери.
— Поблагодарить за чай не мешало бы, — прошипела ему вслед Лукерья Демьяновна, — вот деревенщина-то, простого приличия не знает, — добавила она, рассерженная вконец на Васю за то, что тот, не расслышав ее замечания, не вернулся назад.
— Не всякое лыко в строку, тетенька, — делая серьезное лицо, вступился Митинька, методически прихлебывая чай из стакана. — До того ли ему? Слышали сами, мать у него умерла…
— Это не мешает, однако, вежливым быть, — не унималась Лукерья Демьяновна, и вдруг, заметя вертевшегося у самовара Лешу, неожиданно обрушилась на него.
— Ты чего здесь толчешься? А? Обвариться хочешь? Вот постой ты у меня! — И увесистый шлепок заключил эту короткую, но внушительную тираду.
— Оби-за-а-ют! — неистово завопил Леша, разражаясь пронзительным плачем.
— Ну, слава те, господи, давно рева не слышали, начинается! — морщась, как от боли, проронил Митинька.
— Утренний концерт — и то на безделье дело, а главное, даром, — вставил Киря.
— Хи-хи-хи! — закатилась пронзительным смехом Маня.
— Не надо обижать Лешу, — краснея до лба и волнуясь, заговорила Люба, быстро вскакивая со своего стула и направляясь к плачущему мальчику. — Покойная мамочка так жалела Лешу, так просила, умирая, не обижать его, — заключила она, взглянув с укором своими большими грустными глазами на тетку. Потом присела на корточки перед все еще безутешно плачущим малюткой и утешала его, гладя по головке своей худенькой, маленькой ручонкой.
Нюра и Шура, две белобрысенькие девочки, тоже подошли к младшему братишке и к Любе.
Лукерья Демьяновна при виде этой сцены нимало не смягчилась…
— Сейчас же перестать реветь у меня, Леша! — прикрикнула она на малютку. — А ты, Люба, не изволь глупостей говорить, никто не обижает это сокровище. Недотрога какой, подумаешь, слова не скажи, сейчас в рев…
— Хрупкая штучка, что и говорить! — вставил Киря.
— Мальчики, в гимназию. Маня и Люба, марш тоже, а то опоздаете и опять жалобы на вас пойдут. Да Софку мне позовите, она в сенях отцовскую рясу чистит… Митя, ты просил, кажется, вчера на карандаши? — деловито распоряжалась Лукерья Демьяновна.
— Просил, тетенька, — пробасил Митя.
— Киря с тобой своими пока что поделится. Теперь не до покупок. Небось слыхал: новый рот отец навязал семье. Каждый грош теперь дома пригодится; значит, обойдешься и без карандашей до поры до времени.
— То есть как же это так? — пожал плечами Митинька.
— А вот и так… Чужие сыты, а свои должны нуждаться во всем, такая мода, стало быть, нынче пошла, — с кривою улыбкой проговорила тетка.
— А нам учительница велела к сегодняшнему дню всем учебник новый по математике купить, — заикнулась было Маня.
— Ладно, подождешь и ты. Не принцесса какая… Сейчас ей вынь вот да подай учебник, цаца тоже какая выискалась, — прикрикнула на девочку Лукерья Демьяновна.
Маня надулась.
— Я у папаши спрошу, коли вы не даете, — буркнула она, демонстративно отодвигая с шумом стул от стола и направляясь к двери.
— Семейная сцена! — делая комическую гримасу, произнес Киря.
Но Лукерья Демьяновна уже не обращала внимания на детей.
Из кухни просунулась голова пятнадцатилетней служанки Софки, чрезвычайно любопытной особы, с ухарски вздернутым носом, большой приятельницы старшей девочки Мани.
— Звали, Лукерья Демьяновна? — шевеля своим удивительным носом, поинтересовалась она.
— Вот что, Софка, ты на котлеты мяса уже нарезала? — с деловитым видом осведомилась Лукерья Демьяновна.
— А нешто коклетки нынче будут? — вопросом на вопрос отозвалась Софка.
— Ну, понятно, котлеты, сейчас приду стряпать. Булки побольше положить надо нынче. Лишний рот с сегодняшнего дня у нас появится, так чтобы хватило, слышишь, на всех.
— А што ж это, на всегдашнее время таперича мальчонка чужой у нас останется харчевать? — полюбопытствовала Софка.
— Не твое дело, ступай.
— Сами же звали.
— Тебе говорят, ступай!
— Битва русских с кабардинцами, или прекрасная Софка, догоняющая тетушку Лукерью Де… — начал было Киря и вдруг закричал неожиданно благим матом на всю квартиру: — Манька, Манька, что ты мой ранец спулила… Вот безголовая-то… Возьми глаза в руки да посмотри, что напяливаешь на спину, свое или чужое.
— А ты так не смеешь с сестрою разговаривать, я все-таки дама, — обиделась Маня.
— Тетя, велите даме мой ранец отдать, — горячился Киря.
— Ах, ты, господи! Вот содом-то! Вот наказанье божеское! — всплеснув руками, воскликнула Лукерья Демьяновна, выскакивая из кухни. — Что мне делать с этими детьми? Создатель мой, как справиться с ними! И распустил же их себе на голову отец Паисий. Пошли вон, в школу, сейчас же пошли вон! — взвизгнула она не своим голосом на весь Дом.
— Боже мой, да не кричите же так, тетенька, неубедительно это, — спокойно произнес Митинька.
Тетка только рукой махнула и, сильно хлопнув дверью, прошла снова в кухню стряпать незатейливый обед. Софка последовала за нею.
В столовой теперь остались только малыши. А Митинька и Киря шагали в это время по улице с ранцами за плечами. Маня и Люба, подпрыгивая на ходу, чуть ли не бегом бежали в свое епархиальное училище, где старшая девочка училась во втором, а младшая в первом классах. И братья, и сестры сейчас говорили о живо затронувшем их новом событии, о приобретении нового члена семьи в лице Васи. Кире Вася не понравился с первого же взгляда.
— Туфля, размазня какая-то, не нашего полка! — решил безапелляционным тоном мальчик, то и дело останавливаясь по дороге, собирая снежные комья в руку и целясь ими во встречные фонарные столбы.
Митинька, считавший себя несравненно умнее всей семьи Волынских, только презрительно пожал плечами в ответ на слова брата.
— Ты глуп, — отвечал он, как отрезал, своим ломающимся баском, — когда у нас умерла мать, мы раскисли не менее…
— Да он, вообще, по-видимому, калоша, — не унимался Киря.
— Почему калоша, а не что-нибудь иное? Ну, положим, апельсин? У вас, второклассников, всегда такие примитивные сравнения, — продолжал убийственно-хладнокровным тоном Митинька, заставив покраснеть брата.
Киря, отъявленный сорвиголова, почему-то робел перед старшим братом и признавал его авторитет четвероклассника.
Он помялся от неожиданного смущения, крепче сжал комок снега и с отчаяния швырнул им в пролетавшую мимо ворону.
Ворона каркнула и исчезла вдали.
Мальчики подошли к зданию гимназии. Разговор о Васе прекратился сам собою. Зато почти такой же разговор на однородную тему еще продолжался между двумя маленькими епархиалками.
— Какой милый этот Вася. Настоящий милый и хороший мальчик. Ти-хонь-кий! — говорила Люба, стараясь своими маленькими ножонками поспеть за старшей сестрой.
— Вот уж ровно не нахожу ничего в нем милого, — фыркнула Маня. — Тихенький потому только, что пока себя показать еще не успел. Все они тихони с первого взгляда. Погоди, узнаешь его еще. Хуже Кирьки нашего будет. Препротивный мальчишка, по-видимому.
— Почему же все-таки противный? — не унималась Люба.
— Да уж потому, что тетка из-за одного его появления в доме нас урезывать станет. Кире в карандаше отказала, мне в учебнике. Еще не то будет. Пожалуй, если во всем другом экономию напустить, очень это все приятно будет, нечего сказать!
— А по-моему, почему бы и не потесниться немножко ради другого. Ведь мы сироты, и он сирота. Он бедненький! Мне его жалко, Маничка: как ему, должно быть, тяжело без матери!
— Ах, только не реви ты, пожалуйста, и без тебя тошно. Математик не велел без учебника носа в класс показывать, а откуда его взять-то! — досадливо повела плечами Маня, бросив косой взгляд на сестру, большие серые глаза которой действительно наполнились в эту минуту слезами. Любу, ангельски добрую и отзывчивую, мало кто понимал из старших детей. Это была какая-то исключительно нежная натура, забывавшая всю себя ради других. Она была любимицей отца Паисия, который за всю свою долголетнюю жизнь сделал столько добра, принес столько незаметных по виду, но крупных услуг людям, что вся слобода и ее окрестности знали и любили «доброго батюшку» как родного отца.