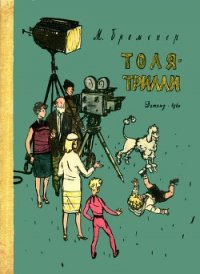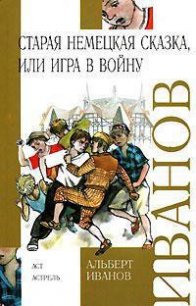Чур, не игра! - Бременер Макс Соломонович (читать бесплатно книги без сокращений txt) 📗
— За то… — начал я, силясь ответить как можно короче, чтоб не получилось утомительного «выяснения отношений». — За то… У твоего «второго я» — будь это Володя Шатилов или кто другой — есть и его собственное «я». Есть… Про это не годится забывать.
— Принимаю, — сказал Рома с заметным усилием. — Принимаю этот упрёк. Может быть, в нём есть рациональное зерно…
— Есть, — заверил я. — Но хуже то, что мне иногда казалось… Мне казалось, я тебе довольно безразличен и ты просто пробуешь на мне остроту своей наблюдательности.
— Ну, — сказал он, поморщившись, — ты несёшь ахинею. Лучше выясним…
— Нет, — перебил я, — мне действительно так казалось, и не без причины.
— А знаешь, — сказал Рома с весёлой злостью, — я сейчас тебя с удовольствием стукнул бы… — И, употребив глагол «стукнуть» в сослагательном наклонении, он вдруг на самом деле дал мне тумака.
— Представь, я, наверно, дал бы тебе сдачи, — ответил я и немедля сильно ткнул его в плечо.
— Принимаю, — сказал Рома так, точно настроение его улучшилось оттого, что мы размялись. — Принимаю этот ответ. Ты вообще-то ничего… Не понимаю только, как ты оказался в объятиях Афанасия. Вот это надо бы нам рассмотреть, — продолжал он тоном председателя, — потому что…
— Минутку, — снова перебил я. — Когда встречаются два товарища, ни одному из них, по-моему, незачем председательствовать.
— А… меткое замечание, — выговорил Рома оторопело. — Пожалуй, в нём есть рациональное зерно. Ну вот, забыл, о чём хотел сказать. Та-ак… Вспомнил: о робости духа, которую ты проявил! Я готов выкинуть председательский колокольчик, но выслушать меня, Володька, придётся! Чтоб выражаться поточнее, я даже себе кое-что для памяти записал.
Он вынул из кармана блокнотный листок и жестом Ботвинника поправил очки. Он был такой же, как всегда, и в чём-то иной…
Я приготовился его слушать.
„Тебе посвящается…“
I

Виктор Громада впервые написал стихотворение, которое ему назавтра не разонравилось. Раньше он, сочинив стихи, на другой день рвал их на клочки, а эти клочки иногда ещё сжигал, разведя костёрчик в пепельнице.
В этот раз он написал стихи вечером, дома, перечитал их наутро на уроке, поправил последнюю строчку, спрятал и испытал на минуту чувство, до того не испытанное и совершенно неожиданное.
Стихотворение начиналось строчкой «Мне без тебя так трудно жить…». Виктор имел в виду Инну Петрову, учившуюся в их девятом «А» уже три месяца, с января (раньше она училась в другой школе и в другом районе). Ему действительно было трудно, оттого что Инна его не замечала. Она ни разу не оказывалась рядом, когда он на переменах удачно шутил и ребята вокруг него громко смеялись. Её не было в классе, когда учительница литературы читала вслух его сочинение о Базарове, которое назвала «наиболее своеобычным». Но ещё труднее стало Виктору после того, как, по-прежнему не замечая его, Инна заметила Гришку Мигунова. Вот тогда он взялся за перо. И сейчас, перечитав стихи, он почувствовал то, чего не ожидал и не надеялся почувствовать: ему стало легче. Не так трудно, как было. Это изумило и даже смутило его. Но облегчение было недолгим, потому что Мигунов передал Инне записку, и она, слегка улыбаясь, тут же принялась за ответ.
Мигунов был старше других ребят в девятом классе. Ему уже исполнилось семнадцать лет, у него росли усы и борода, и он каждое утро пользовался электробритвой «Нева». Кроме того, он курил сигареты и катался на мотороллере. Помимо этих чисто мужских привычек, у него были и мужские переживания. Например, недели полторы назад Гришка бросил курить. С искажённым мукой лицом он сосал на переменах пустой мундштук, и всё это видели. А по вечерам — о чём тоже знали все — он два раза в неделю навещал старушку, которую сбил, мчась на мотороллере. И эти в высшей степени мужские Гришкины беды внушали, по-видимому, Инне сострадание.
Однажды она поехала вместе с Мигуновым проведать старушку и с заднего сиденья мотороллера помахала рукой переходившему улицу Виктору. После чего Мигунов умчал её на второй космической скорости, а Виктор забыл, в какую сторону шёл…
Виктор решительно не понимал, как она может сочувствовать Гришке. Он не видел в Гришкином отвыкании от сигарет ни геройства, ни мученичества, поскольку того никто не заставлял приучаться к курению. И точно так же Виктор считал, что Мигунов вполне мог не сбить с ног старушку, если б не мчался что есть духу неизвестно зачем. То, что беды, в которых Гришка сам виноват, могут казаться Инне испытаниями, выпавшими на долю его сильного характера, поражало Виктора. Ему даже как-то пришло в голову, что Инна только делает вид, будто Гришкины переживания ей небезразличны. И, вероятно, именно поэтому вторая строчка его стихотворения в последнем и окончательном варианте звучала так:
«А ты?.. Ты дразнишь и тревожишь…»
II
Неизвестно, что произошло бы дальше с только что написанными стихами Виктора, если бы в тот день, когда он принёс их в школу, его брата Алёшу Громаду, ученика шестого класса той же школы, и ученика тоже шестого класса, Ваську Тушнова, не привели на большой перемене к директору школы.
— Драчунов из шестого «Б» — ко мне, — произнёс Иван Еремеевич с порога кабинета.
Алёша и Васька вошли, сопровождаемые девятиклассником Михаилом Матвеевым и руководителем школьного кружка художественного чтения Глебом Анисимовичем. Глеб Анисимович и Михаил Матвеев приблизились к директорскому столу, а Алёша с Васькой остались у дверей.
— Вы сказали «драчунов — ко мне», Иван Еремеевич, между тем драчун тут только один… — проговорил Глеб Анисимович.
У него был такой артистический голос, такая великолепная дикция, что казалось странным, если этим голосом он не стихи по радио читал и не монологи со сцены произносил, а сообщал что-нибудь обыденное, стоя от вас к тому же в двух шагах.
— Вот этот, Тушнов, — пояснил Матвеев.
— Да, этот Тушнов на моих глазах, как говорится, ни с того ни с сего смазал по физиономии этого мальчика… — продолжал Глеб Анисимович.
— Алёшу Громаду, — вставил Матвеев.
— …Алёшу Громаду, который от этой затрещины отлетел на несколько шагов и едва не упал.
Алёша печально подтвердил:
— Я с трудом сохранил равновесие.
После этого директор спросил:
— Тушнов, почему ударил Громаду?
И услышал в ответ:
— Он мне не давал марку…
Директор не понял:
— Какую марку?
А Васька пожал плечами.
Тогда директор спросил Алёшу:
— Что же произошло?
И Алёша принялся охотно объяснять:
— Это очень ценная марка, поэтому я… Она ценилась ещё тогда, когда она была просто маркой голландской колонии. И теперь, представляете себе, она стала маркой бывшей колонии! — Он вынул марку из нагрудного карманчика куртки. — Вот она!
— Как тебе удалось достать? — спросил директор, разглядывая марку. — Выменял?
— Да, на две, — живо ответил Алёша. — Тоже ценных… Но тех у меня, Иван Еремеич, остались дубликаты.
— Толково, — сказал директор, возвращая Алёше сокровище. Потом взглянул на Тушнова: — Что ж ты молчишь? (Васька пожал плечами: «А вы, мол, мне подсказываете, что говорить?..») Не просишь у Громады прощения?
Немедля Тушнов отрывисто произнёс:
— Извини, Громада.
На что Алёша ответил несколько театрально:
— Если ты сожалеешь о своём поступке, я тебя прощаю, Василий.
— Ага, — сказал Василий, подумав о том, что пробыл в директорском кабинете уже вполне достаточно. — Можно идти? — спросил он буднично.
И тут как раз послышался звонок, возвещавший о конце перемены.
— Нет, — ответил директор. Затем повернулся к Алёше Громаде и Михаилу Матвееву: — Вы свободны, идите в классы.
И оба ушли, а Тушнов остался. На лице его появилось выражение недоумения. Точно до этой минуты всё было в порядке вещей, «нормально», как говорил он по всякому поводу, а теперь начинается, неизвестно для чего, нечто излишнее.