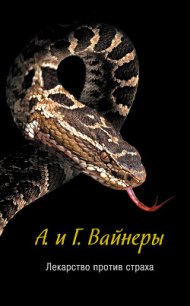Лорс рисует афишу - Мальсагов Ахмет Пшемахович (книга жизни txt) 📗
…Придя домой, Лорс писал Эле: «Эля, я шел мрачной, вымершей улицей под уютным капюшоном, который пропах сухим сеном и лошадьми, и думал: почему мне даже в такую тоскливую ночь не одиноко на свете? В городе — ты, в городе — мой дядя, в городе — город с многолюдными улицами, яркими ночными огнями и всегдашним шумом жизни. И все равно было одиноко! Здесь тоже ты, хотя теперь даже на бумаге мы не можем обменяться словом. Но понимаешь, Эля, здесь я впервые почувствовал, что мир населен».
Лорс не знал ученой скучной формулы, утверждающей, что юность есть не что иное, как переход от зрелости физиологической к зрелости социальной, когда человек осознает, что он — среди людей. Этот переход начался бы у него в должный час и в институте или в редакции. Так уж случилось, что пришелся этот час на его сельскую клубную жизнь, которая вплотную свела его со множеством разнообразных людей.
«Ты, конечно, воскликнешь, Эля: «Смотря каких людей!» Но во время матча не задумываешься, кто в твоей команде сколько книжек прочел, умный он или все еще тряпочку сосет. Важно — сделать игру. Выиграть! В моей большой клубной команде есть все, что бывает во время матча: огорчения и радость, смех и ссоры, злость против «сачкующего» игрока и доброе товарищество.
Мне хорошо в моей «команде». Я в ней не чужой. Что-то (очень немногое!) я знаю и умею лучше, чем другие. Как искренне это здесь уважается! Когда видят, что не умею и не знаю, относятся к этому так простецки-деликатно, что мне все чаще бывает просто скучно играть в «арапистость» (ее, кажется, раскусили и посмеиваются над ней добродушно). Мне хорошо и дружно почти со всеми. Я знаю, что никто из нас не съест куска хлеба в одиночку, когда мы всей агитбригадой застрянем где-нибудь в полевом шалаше в проливной дождь. Я знаю, что я и некоторые из ребят будем стоять локоть к локтю, если перед нами опасность.
Скажешь, сплошная идиллия? Как бы то ни было, я слова «недруги» пока не знаю, Эля (можешь смеяться)!
Когда-то я спросил в редакции у Цвигуна: «Цвиг, почему тебя в редакции многие не любят?» Он мне ответил: «Детка! Расписываясь в ведомости за свой гонорар, ты успеваешь глянуть — а сколько у других? Конечно, нет. Стесняешься! Люди же обязательно шнырнут глазами и по чужим строчкам ведомости. Такова порода: человек! У Цвига всегда в ведомости приличная сумма, а любовь к человеку уменьшается в обратной пропорции к его гонорару».
Не думай, что Цвиг такой уж жадюга. Просто мера гонорара для него — мера истинной значительности человека, плодящая ему недругов, мера энергии, способностей, характера.
Может, прав Цвиг? Ну и пусть. Совсем не обязательно, чтобы человек имел врагов. Моя команда ведет нехитрую, но по-своему заразительную клубную атаку против скуки, грязи, уныния, людской разобщенности. Есть люди, которые на меня косятся. Но они для меня вне моей игры: глядят с трибун. Аптекарь — с насмешкой, Васька-Дьяк — главный заводила ночного парка — со злобной пристальностью, потому что многие из его дружков потянулись к клубу. Цвиг при своих наездах — просто со снисходительным любопытством, хотя суетится всегда так, будто я у него место избача перебил. Поп Азарий Фомич — и тот, наверное, наблюдает за мной пока без зависти, потому что мне еще далеко, как он считает, до его «весовой категории». Даже мой коллега и начальник Тлин — и тот вне площадки. Он словно негодный тренер, который просто по долгу службы шипит со стороны на команду.
Конечно, здорово расхолаживает, если с трибун смотрят недоброжелательно (я люблю аплодисменты). Но лишь бы не кидали огрызков на поле, не мешали игре слишком уж нахальными выкриками. Кинут огрызок — швырну назад».
Страшны ли недоброжелатели на трибунах, если сама «команда» растет, крепнет? — раздумывал Лорс.
— Национальную молодежь больше привлекайте, — требует Полунина. — Особенно девушек. Вот тут рядышком с райцентром, на третьей ферме, певучих девочек я как-то заметила.
Туда пошел Володя — это в четырех километрах от Предгорного.
Вернувшись, он прямо на пороге репетиционной встал, закрыв свои узковатые глаза, постоял с мечтательной улыбкой, словно слушая чей-то голос, и в блаженстве покачал головой:
— Ну, братцы… Какой я голосище откопал!..
Обычно Володя был очень сосредоточен и сдержан. У него чаще всего бывало замкнутое лицо человека, непрерывно прислушивающегося к какой-то своей, внутренней мелодии. Озарялось его матовое лицо вырвавшимся светом волнения только на сцене или на репетиции, да еще, пожалуй, у волейбольной сетки.
Однако таким, как сейчас, Лорс видел его впервые. Оказывается, Володя услышал на ферме голос молоденькой ингушки-телятницы.
— Захожу в телятник, — рассказывал он, — чисто. Воздух свежий. В клетках прыгают, резвятся крепыши-малыши толстоногие. И вдруг — девичий голос. Тембр! Лиризм! Чувство меры! Да что рассказывать… Девчонка обещала к вечеру прийти к нам. Согласилась, чтобы мы ее послушали.
…Это была обычная горская девушка. Взгляд черных глаз с густыми ресницами скромно полуопущен, но в осанке девушки достоинство. Румянец во всю щеку… Руки большие, красные, она старается их не очень выставлять. Розовеет шифон кофточки. На голове непременная косынка.
— Мы же с тобой знакомились, — вспомнила Аза. — Тебя зовут Гошта? Я не знала, что ты поешь.
— И я тебя знаю!
Она довольно подробно, не чинясь, рассказала всем о себе, о семье, о ферме. А закончив, встала, поправила косынку и спросила у Володи:
— Можно идти?
— Вот чудачка! — кинулся Володя загораживать дверь. — Я же тебя предупредил: мы должны тебя послушать!
— А разве меня никто не слушал? — гордо тряхнула Гошта головой. — Для чего я тогда все сейчас так длинно рассказывала?
В комнате расхохотались так дружно и добродушно, что не удержалась и Гошта.
…Спела она ингушские и даже русские песни, знала и грузинские мелодии. Всем очень понравился голос Гошты. Но от участия в самодеятельности она отказалась наотрез.
— Боюсь отца. Он человек старых правил, вспыльчивый. Кто его знает, вдруг начнет…
Гошта, любовно передразнивая отца, показала голосом, жестом, мимикой, как он выглядит в гневе. Все рассмеялись, один Лорс над чем-то задумался.
— А ты спроси у отца. Может, разрешит, — посоветовала Аза. — Хочешь, я поговорю с ним?
— Нет. Вдруг ему не понравится даже то, что я спросила такое. Была бы у меня мать или сестра — через них девушке удобно к отцу обращаться…
Конечно, говорила Гошта, отец может и не узнать, что она поет на сцене (по старинным понятиям горцев это считается нескромным для девушки). Живут они раздельно: она — при ферме, а отец — по другую сторону райцентра. Он грузчик склада на строительстве, там и живет. Но ведь всегда найдется кумушка, которая захочет донести отцу. И Гошта изобразила какую-то кумушку так похоже, что все представили себе сплетницу, как живую. В комнате опять смех, и только один Лорс все что-то размышлял.
Он отозвал Азу, что-то шепнул ей. Она вышла.
Лорс подошел к Гоште и решительно сказал:
— Ты будешь играть у нас в спектакле. Я понаблюдал, как ты умеешь передразнивать. Любая роль у тебя получится. А петь мы тебя не заставим, не бойся, — успокоил ее Лорс, шепнув расстроенному Володе: — Пока начнем с этого.
— А-а! В спектакле можно загримироваться, чтобы никто не узнал?! — догадалась Гошта. — Все равно узнают. Я бы любого узнала, как ни переодевай. Однажды приезжали к нам на ферму артисты…
Она остановилась, увидев, что вошла какая-то незнакомая женщина. Незнакомка поздоровалась со всеми кивком головы и начала разглядывать присутствующих. Она кого-то искала.
Не обращая на нее внимания, Лорс спросил у Гошты:
— Ты Азу знаешь?
— Ее многие знают, не только я. Секретарь! Да она же недавно была тут, вон на том стуле сидела…
— А я и сейчас здесь! — подошла к Гоште незнакомка — это была загримированная Аза.
Так убедили Гошту. В ожидании роли она приходила в клуб, охотно дежурила, пела кружковцам свои песни, ездила с агитбригадой, но все переживала: не получится ли скандала с отцом.