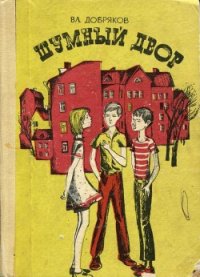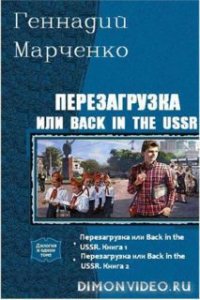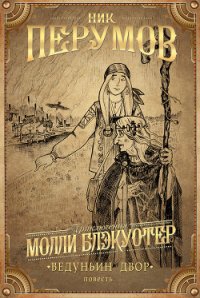Белое чудо - Масс Анна Владимировна (читаем книги онлайн txt) 📗
Витя бежит, не разбирая дороги. Ветви хлещут его по лицу. Он не знает, чему равна площадь прямоугольника, и это наполняет его нестерпимым ужасом. Учительница близко, он слышит за спиной ее дыхание, делает последний, отчаянный рывок и вдруг — плавно огибает дерево, отталкивается от ствола, поднимается выше, выше... Вот он уже летит над лесом — раскинув руки, подставив лицо свежему ветерку.
Он уже летал во сне, и не раз, теперь он знает, как повернуть налево, направо, умеет замедлить или убыстрить полет.
Он летит, но уже начинает понимать, что это — сон, что сейчас он проснется. Изо всех сил он старается продлить ощущение полета, силы, уверенности. Эти ощущения приходят к нему так редко, и только во сне, а днем — почти никогда. Днем он растерянный, сутулый, все забывает, все делает не так, как полагается, он — растяпа, и все его ругают.
Сон тает, тает, Витя начинает чувствовать под головой подушку, а под боком — сбившуюся простыню, чувствует, что лежит он в комнате, только пока еще не может вспомнить — в чьей: то ли бабы Клавиной, то ли бабушки Елизаветы Викторовны. Он старается не думать об этом, чтобы не упустить последние крупицы сна, боится шевельнуться, потому что знает: повернешься на другой бок — и сон погаснет, как огонек спички, если на него резко дунуть. А потом даже не вспомнишь, что снилось.
Но тут пронзительным звоном разлился будильник, завел ненавистную утреннюю песню. И резко смолк: баба Клава нажала кнопку.
— Охо-хо-хо-хо! — длинно зевнула баба Клава, зажгла настольную лампочку, потянулась так, что заскрипела тахта.
Витя, не открывая глаз, по звуку, определял все бабы Клавины действия. Села, спустила ноги. Надела халат и прошлепала к Витиной постели.
— Витек! — окликнула она ласково. — Полвосьмого!
— Сейчас... — пробормотал Витя. — Дай сон досмотреть...
— Вставай, мой бедный! Воробушек мой жалкий! — не отставала баба Клава. — Покушать не успеешь, страдалец ты мой!
Но невозможно оторвать голову от подушки. Витя опускает на пол ноги, садится на коврик у постели, а голова все еще на подушке, глаза закрыты.
— Витек! — тормошит его баба Клава. — Проснись, мой золотой, в школу опоздаешь.
— А сегодня суббота?
Он прекрасно знает, что сегодня понедельник, и спрашивает просто так, в надежде на чудо.
— Да уж хоть бы суббота поскорей, каторжник ты мой разнесчастный!
Вите хорошо у бабы Клавы. Жаль, что он может проводить у нее только субботу и воскресенье. Все остальные дни недели он живет у другой бабушки. Там у него свой стол, своя полка, даже свой шкафчик для одежды. Там красивая полированная мебель и множество фарфоровых статуэток, но их нельзя трогать. Та бабушка не работает, она только воспитывает Витю.
И все-таки именно здесь, у бабы Клавы, Витя чувствует себя дома, а там — нет. Эх, жить бы все время в этой старой коммунальной квартире, в маленькой, тесной, теплой комнатушке. Здесь над его постелью — коврик с оленями. На столе в вазочке — ветки клена с сухими отглаженными листьями. А над комодом — в простой картонной рамке фотография молодого солдата с двумя медалями на гимнастерке — Витиного дедушки, погибшего на войне. Баба Клава говорит, что Витя становится все больше и больше похож на дедушку. Это приятно.
Но бабе Клаве еще далеко до пенсии, она работает медсестрой в больнице, ее сутками не бывает дома. Вот почему Витя живет у Елизаветы Викторовны.
Дома? бабушек расположены неподалеку один от другого, хоть и на разных улицах. Но почему-то бабушки никогда не ходят друг к другу в гости. Поссорились, наверное, и скрывают от Вити.
Он умывается на кухне, потому что ванна занята, потом ползет одеваться, по дороге прислоняясь головой то к пальто на вешалке, то к дверному косяку. Ему кажется, что он может спать стоя, лишь бы прислониться к чему-нибудь мягкому и теплому. Потом, сидя на постели с закрытыми глазами, вслепую натягивает брюки и слушает сквозь дремоту наставления бабы Клавы:
— Зачем читал до полдвенадцатого? Что ж, что книжка интересная? Их, интересных-то книжек, ой-ой-ой сколько! А я, когда ее покупала, и не думала, что она тебе так понравится. Угодила, значит? Ну и ладно, ну и хорошо. А только это все же не дело — до полночи не спать, глазки ломать. А потом голова заболит, и будет Елизавета Викторовна меня ругать и тебя в субботу ко мне не отпустит. А я только ведь и живу — от субботы до субботы. Только и жду — вот придет ко мне мальчишка, вот игрушку купим или книжку, в парк пойдем, погуляем... А кого мне еще ждать? Давай уж я тебе рубашку-то застегну, руки-то еще не проснулись...
После чая с сырниками и медом спать уже не хочется, только и в школу идти тоже не хочется. Сегодня контрольная по математике.
Баба Клава надевает ему на плечи ранец, дает в руку мешочек со сменной обувью — а то бы Витя непременно его забыл, — одергивает пиджачок, целует и закрывает за ним дверь. Потом спешит к окну, чтобы посмотреть на Витю, когда он пойдет по двору.
Вот хлопает дверь подъезда, и Витя, сутулясь, бредет вдоль стены дома. У бабы Клавы сердце сжимается от жалости. И в кого он такой робкий, тихий?
Возле ворот Витя оглядывается, видит в окне бабу Клаву и машет ей. Она тоже машет ему, к глазам ее подступают слезы, и фигурка внука становится расплывчатой.
Со стороны могло показаться, что мальчик спит на ходу, волоча ноги, согнувшись под тяжестью школьного ранца. Мешочек со сменной обувью, на котором было нашито «Снежков, 3-й «А», крутился на веревочке, то и дело касаясь асфальта. Его обгоняли другие школьники и взрослые, которые спешили на работу. Некоторые оборачивались и заглядывали ему в лицо.
А он летел, раскинув руки, дыша глубоко и спокойно. Вот внизу среди елок и берез открылась небольшая поляна, та самая. Вон и дымок от костра, а рядом — тот самый ствол упавшей березы, на котором они тогда сидели. Мелькнула красная в белый горошек мамина косынка. Мама вышла из зарослей, держа в охапке сучья и палки для костра. А папа наклонился над ручейком, набирает воду в котелок.
Витя опустился на поляну и сел на ствол березы. Он сидит и молча смотрит на огонь. Как тогда.
— Ты все сидишь, мечтатель? — спрашивает мама. — Я ведь просила тебя нарезать хлеб.
Витя кивает. Он кивает не маминым словам, а самому себе, своим мыслям. Все так и должно быть. Мама не вскрикнула от удивления, когда увидела его на поляне. Не кинулась к нему. Нет, пусть все будет, как тогда. Они втроем действуют у костра. Папа вбивает рогульки и вешает на поперечную жердь котелок — кипятить воду. Мама чистит картошку. А он насадил кружок колбасы на прутик и сунул в огонь. Колбаса выгибается, темнеет, от нее идет такой вкусный запах...
Но только тогда он не смотрел на маму и папу — зачем на них было смотреть, когда они рядом, и всегда будут рядом... Так он думал тогда. А сейчас он пристально всматривается в их лица и замечает то, на что тогда не обратил внимания: они печальные, и мама и папа. Они то и дело оборачиваются к нему с каким-то задумчивым видом — словно хотят спросить о чем-то и не решаются. Он не знал, что они уезжают. То есть знал, но думал, что не надолго. А они знали, что надолго. На два года. И очень далеко, в другую страну, в Алжир. Это их последний поход. Теперь-то он все хорошо понимает. Он прислонил к стволу прутик с поджаренной колбасой, подошел к маме и крепко прижался к ней. Она кинула недочищенную картошку и обняла его. Он и теперь не видит ее лица, но это неважно.
Он чувствует ее всю, ее руки, которые гладят его и нежно ерошат его волосы, ее горячую, мокрую щеку на своей щеке...
— Ты что, ослеп?!
Витя вздрогнул и проснулся. Да, с ним это часто бывает, он спит с открытыми глазами. Он так уходит в себя, что не видит, не слышит ничего вокруг. Вот и сейчас он наткнулся на какую-то тетю, и она рассерженно смотрит ему вслед.
— Толкнул — и хоть бы что! Не извинился даже! Кто их только воспитывает! — ворчит она, и каждое ее слово — как щелчок выключателя: гаснут лампочки. Гаснет свет над поляной. Ни мамы, ни папы, ни кружочка колбасы на прутике.