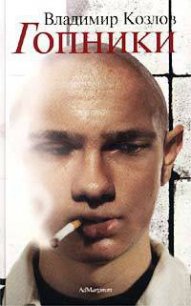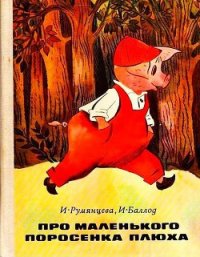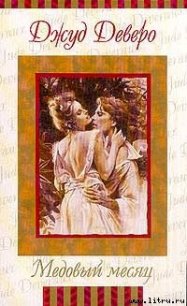Май, месяц перед экзаменами - Криштоф Елена Георгиевна (книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
И если уж говорить о странности, необычности настроений…
Да, для Виктора это странное настроение. Для него, привыкшего к победам, причем к довольно легким победам, к тому, что ему всегда доставалось лучшее, всегда первые места. Но раньше были игры, спорт, азарт учебы. А тут надвигается жизнь, и нет рядом того единственного человека, с которым Виктор чувствовал себя сильным не для покровительства, а для того, чтобы идти вперед.
Виктор осторожно поворачивает голову в сторону окна. Там сидит тот единственный человек.
Отрываясь от тетради, Нина сдувает светлые волосы, падающие ей на лоб, и долго смотрит на Анну Николаевну, на доску, где неправдоподобно быстро возникают чертежи, маленькие и четкие, будто их выводят не сыпучим мелом, а рейсфедером.
Анна Николаевна между тем все объясняет и объясняет. Но Виктор, в общем-то, не вслушивается в ее слова.
Гораздо важнее математики для него сам факт существования этого класса, и его в этом классе, и то, что женщине, быстро и четко строящей на доске свои пирамиды, есть дело до него и до Нины и до их отношений. И еще до чего-то такого в нем, до чего нет дела даже его матери и отцу.
Анна Николаевна принимается стирать чертежи, но тут же бросает тряпку в сторону: можно просто перевернуть обшарпанную доску «наизнанку». Однако оборотная сторона оказывается занятой строчками, оставшимися от урока литературы. Это пункты плана сочинения на вольную тему: «Настоящий человек рядом с тобой».
Анна Николаевна наклоняет голову к плечу, с явным интересом вглядываясь в эти строчки. Однако интерес этот, Виктор считает, должен был быть по меньшей мере ироническим. «Что именно заставило тебя остановиться на образе данного человека?», «Какие черты данного человека ты считаешь наиболее типичными для положительного героя нашего времени?» В скобках следовал перечень: «Честность, верность долгу, коммунистической морали, трудолюбие, настойчивость», — будто они могли перепутать или нуждались в этом ассортименте, если бы каждый действительно стал писать о своем знакомом.
Но Людмила Ильинична во-первых, любит пунктуальность, во-вторых, нисколько не думает о том, что они действительно будут писать о своих знакомых. «Рядом с тобой» — может означать вовсе не на заводе, не в поселке, а просто в стране, просто в художественной литературе, просто… Во всяком случае, с точки зрения Людмилы Ильиничны.
Существуют, однако, и другие точки зрения. Например, точка зрения их классного. И не так уж плохо было бы узнать эту точку зрения.
Такая мысль приходит в голову, очевидно, не одному Виктору. Потому что все они разом принимаются двигаться, расставлять локти, готовясь услышать куда более интересное, чем рассказ об усеченной пирамиде, пусть бы в нее вписалось десять шаров, не то что один.
Только сама Анна Николаевна делает вид, что не замечает всего этого, что так просто споткнулась на минуточку о чужие строки и вовсе не собирается терять времени.
— Если хотите, с теоремой мы останемся после уроков! — предлагает Нинка.
И даже Марик, которого никак нельзя заподозрить в любви к наукам, тоже подтверждает:
— Останемся! О чем вопрос.
Они все кричат: «О чем вопрос!», и «Когда мы вас подводили!», и «Что вам жалко, что ли!»
Впрочем, Виктор не может поручиться, что их толкает одно святое любопытство, что им так уж до зарезу нужно немедленно узнать мнение классного. Возможно, им надо высказать свои мнения, которые как-то не тянуло высказывать на уроке литературы. Им хочется говорить, спорить, и блестеть глазами, и бросать в лицо противнику свои доказательства, им хочется, наконец, просто двигаться, может быть, даже вскакивать из-за парт, и чтоб было много шуму, и шум был умный, и по лицу классного чтоб они видели, какой это умный шум…
Одним словом, им хочется праздника. И праздник сам идет в руки, надо только немного постараться. И они стараются, каждый в меру своих способностей и репертуара.
— Жалко! — нарочно противно ноет Марик, улегшись щекой на парту. — Всю дорогу одни теоремы, теоремы…
Голос Марика набухает сочувствием к самому себе, и в тон ему, только очень быстро наседает Семинос:
— Раз в жизни! Ну что вам стоит — раз в жизни! Через месяц захочется мораль прочесть, а где они — мы? Фьють, — он делает вид, что сдувает что-то с ладони, — нет нас: ушли в большую жизнь…
И Медведев тоже весь устремлен навстречу предстоящему празднику, только терпения у него куда больше, чем у Марика или Семиноса. Поэтому он не ерзает, а сидит, основательно выложив руки на парту, и глаза у него полузакрыты. И у кого бы не дрогнуло сердце отнять у Медведева этот праздник? Вообще лишить кого бы то ни было из них этого праздника? Ведь они, как любят повторять те же взрослые, стоят на пороге…
Точно искра прошила класс, и с завидным единством, не столь уж часто охватывающим их по более важным случаям, они загоняют своего классного руководителя на ту дорожку, на какую им нужно. Очень далеко от пирамид и усеченных конусов. А классный руководитель, разумеется, только притворяется для приличия, будто хочет увильнуть, будто кто его знает как важны все эти площади и объемы.
— Ну хорошо, — говорит, наконец, Анна Николаевна. — Если уж состоится разговор, который, на мой взгляд, следовало бы отложить, если уж он состоится, то нисколько не в том плане…
Она еще раз окидывает их взглядом, как пересчитывает. «В любом плане, — разрешает глазами Виктор, когда ее взгляд останавливается на нем на ту же долю минуты, на какую он останавливается на каждом из них. — Давайте в любом плане, если не можете просто так, по-дружески».
— Ну хорошо. Если бы сочинение пришлось писать мне, я бы написала о семье Шагаловых. Надо думать, Леонида не испортит такое признание, тем более произнесенное на последнем уроке.
Так вот почему у нее было лицо человека, все еще считающего, что лучше бы, пожалуй, свернуть в сторону! Лина Николаевна еще ничего не сказала, кроме первой фразы, и стоит, прижимая тыльную сторону ладоней то ко лбу, то к вспыхнувшим щекам, но Виктор уже знает, что последует за этим.
Нет, она умный человек и не произнесет вслед за именем Шагалова имя нынешнего главного инженера Антонова. Но все равно имя Ивана Петровича Шагалова всегда звучит в этом поселке укором его отцу. Как будто заключалась какая-то вина в том, что отец не начинал, а продолжал, или как будто вообще можно сравнивать умершего с живым. Умерший, как книга, если даже допустить, что все в ней правда. Все — правда, но не вся правда, потому что были же и у него какие-то слабости, какие-то промахи, неверные шаги.
Виктор смотрит в сторону Ленчика Шагалова, словно затем, чтобы прикинуть, какие же промахи, какие неверные шаги. Лица Ленчика ему почти не видно: один выставленный вперед выпуклый лоб, а глаза прикрыты худой загорелой рукой со сбитыми пальцами. И совсем неизвестно, что в глазах: удивление, грусть или все-таки притаилось там тщеславие, перемежаясь с другими чувствами? То пусть самое тайное, самое маленькое тщеславие, которое начисто отрицают в нем Анна Николаевна да и другие учителя Первомайской средней школы N 2.
Анна Николаевна продолжает:
— Мне не мало лет, я много видела, но, честное слово, я никогда не была знакома с человеком более мужественным и добрым, чем Иван Петрович Шагалов. Он прожил необыкновенную жизнь и умер, в сущности, молодым. Что касается меня, я бы сказала: он был героем нашего времени, во всяком случае одним из безымянных героев.
За первый год войны он имел уже пять орденов. А в сорок третьем попал в плен. Никто из вас не знает, что такое лагерь смерти. Он был руководителем подпольной партийной организации в таком лагере. Он пять раз бегал из лагеря, пока не добрался до партизан. Его могли уничтожить в любую минуту, но он думал о товарищах. Не один человек был обязан ему жизнью. Я знаю случай, когда он, сам обмороженный, по снегу тащил своего товарища, а сзади в любой момент могли догнать овчарки…
Интересно, чего она хочет? Чего они все хотят? Чтоб его отец тоже попал в плен, тоже отморозил себе ноги? И тоже тащил на себе своего товарища? А если не было обстоятельств, при которых надо тащить товарища?..