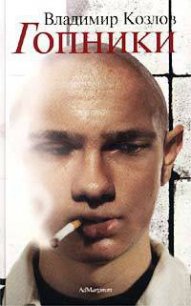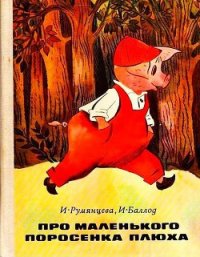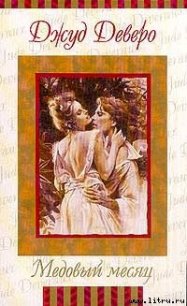Май, месяц перед экзаменами - Криштоф Елена Георгиевна (книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Маленький солдатик тоже уставился на меня, только отнюдь не растроганно, а напряженно. Маленький солдатик со спутанными прямыми волосами, с белыми царапинами на детских ногах, как будто она продиралась сквозь ажину. Впрочем, сквозь какие-то кусты она и в самом деле продиралась. Царапины — приобретение нынешнего вечера.
— А что говорит Алексей Михайлович? — продрался солдатик сквозь мое молчание.
— Почему именно Алексей Михайлович?
— К нему все бегут если что…
«К тебе тоже бегут», — подумала я.
— Да, — сказала я вслух, соглашаясь с Ниной насчет Алексея Михайловича. — Да…
Я постаралась, изо всех сил постаралась загородить того Алексея Михайловича, который, разведя руками, сказал мне однажды: «Боюсь, в этом деле я вам не помощник».
Тот Алексей Михайлович — это касалось только меня. Нина не должна была увидеть его, не должна была даже подозревать о его существовании. И поэтому, отводя в сторону свои и ее мысли, я спросила:
— А что за женщина у Виктора мать, я ее как-то мало…
— Вы знаете, Алексей Михайлович учился с ней в техникуме. Они дружили.
— Странно, он мне ничего не говорил.
— Она Виктору рассказывала.
— Странно, он мне ничего…
Хотя почему так уж странно?
Странно не то, что Алексей Михайлович ничего не сказал мне о своей дружбе с Юлией Александровной. Странно — как они дружили?

После ухода Нины я долго пыталась представить — как, но мне это не удавалось. Юлия Александровна и Алексей Михайлович, по крайней мере сегодня, на мой взгляд, существовали в слишком разных измерениях, были озабочены слишком разным. И ничего с этим нельзя было поделать. Кроме того, мне мешал Антонов-старший. Вырываясь вперед, он словно бы требовал, чтоб я сравнивала с ним — не с его женой.
Он стоял передо мной, как стоял действительно когда-то на фоне новых корпусов с пылающими от заката окнами. Руки были засунуты в карманы и далеко вперед оттягивали куцый мальчишеский плащик. Рыжая челочка редко нависала над глазами, которые умели принимать какое угодно выражение, но все же старались держаться где-то на уровне отеческой приветливости, отеческого гнева.
Или, может быть, слово «отеческий» недостаточно ясно передавало оттенок? Может, лучше следовало сказать: «масштабного гнева», «масштабной приветливости»? «Масштабной озабоченности»? Вот он оглядывает поднятое им, вдохновленное им, успешно довершаемое им строительство… Тише — все остальные должны отойти хотя бы на полшага назад.
Глава одиннадцатая,
пересказывающая от лица автора разговор, может быть самый важный в этой истории
Если бы еще неделю назад, до второй ссоры на обрыве, Виктора спросили, как он относится к Милочке, он вздернул бы плечи с улыбкой: «Хорошо отношусь». — «А к Нине?» — «К Нине? — На этот вопрос нельзя ответить так сразу. Тут есть от чего задуматься. — К Нине? Тоже хорошо относился. Правда, потом она меня подвела».
Но есть ответ и ответ. А слова «хорошо отношусь» для многих Викторов имеют сегодня очень растяжимый смысл. Так говорят в том случае, когда подразумевают: «Она мне симпатична», «Она мне нравится». И в том случае, когда хочется сказать: «Я ее люблю». Но слитком уж прямое, требующее и обязывающее слово «люблю».
Хорошо отношусь…
Приятно ходить по поселку с самой красивой девушкой школы. Приятно просто смотреть на Милку: из-под золотой короны ясно светятся мохнатые, жукастые, как говорит Медведев, глаза, а руки жемчужно-белые и вызывающе беспомощно выложены поверх нарядной торчащей юбки. А ласково стеклянный голосок перебирает слова:
— Представляешь, я беру интервью, а вокруг все такие научные-научные работники, и самый младший из них и то доцент или даже, может быть, профессор. Остальные — академики…
— Кошмар, они же тебя уведут, Звоночек. Там такие лысины, такие бороды, а перспективы!
Но это был только разговор, причем довольно ленивый разговор. На самом деле он не ревнует Милочку к этим академикам.
— А самолет ты представляешь какой? «Серебристая птица могуче распростерла крылья над простором Атлантического океана…» — декламирует Милочка, и Виктор понимает: это из ее будущей корреспонденции.
Одного он не понимает, и ему иногда очень хочется спросить, не всерьез, а так, из любопытства:
«Ну, а мне в твоей серебристой-серебристой птице найдется место? Или одним академикам?»
Да, только из любопытства, только для разговора. Милочку он вовсе не имеет в виду на всю жизнь. Нину имел в виду, а Милочку — нет. А после событий на обрыве он вообще не стал бы возражать, распадись их дружба сама собой. Но уже на следующий день лицо Милочки было так приветливо, так обращено к нему, что просто невозможными казались какие бы то ни было объяснения.
Думая об атом, Виктор усмехается одним ртом, глаза остаются ни при чем: в них можно подметить тревогу, даже тоску, если внимательно приглядеться. Но внимательно приглядываться к Виктору некому.
Мать приложит руку ко лбу тыльной стороной, как прикладывала, проверяя температуру у маленького.
— Ты здоров? — Лицо у матери последнее время озабоченное, даже потерянное какое-то.
Один раз он видел, как у нее дрожали веки. Она сидела, читала Бёля и делала вид, что у нее вовсе не дрожат веки, а если и дрожат, это относится к Бёлю, ни к чему больше.
Анна Николаевна подходит к нему совсем с другим лицом.
— Антонов, вы хотели о чем-то спросить? — Анна Николаевна не приложит руку ко лбу и в глаза заглянет не так, как мать, а быстро и насмешливо. — Не хотели? А я бы на вашем месте…
Виктор подхватывает неоконченную фразу:
— …полюбопытствовали насчет задачек?
— Насчет задач, Антонов. Задачки вы, в конце концов, умеете решать. Я в этом убедилась.
Виктор ловит себя на том, что ему хочется дольше слушать насмешливый голос Анны Николаевны. Дольше стараться понять какой-то второй, ускользающий смысл ее слов. Виктору всегда нравилась манера Анны Николаевны бросать слова, как мяч на волейбольной площадке. Пасс. Еще пасс — удар! И при этом самое приятное то, что с тобой не балуются: той стороне так же важно выиграть, как тебе. Может быть, даже еще важней.
Но сегодня Анна Николаевна в каком-то не свойственном ей настроении, по крайней мере так кажется Виктору.
Виктор мог и даже должен был считать это настроение странным для своего классного, потому что он, например, ничего не знал о разговорах под грибком и других разговорах с Алексеем Михайловичем. О том, что Анна Николаевна разрешает себе быть чуть-чуть сентиментальной в подобных разговорах, хоть и не одобряет сентиментальности.
Но сейчас Виктору не до подробных анализов. Он только смотрит на Анну Николаевну, стараясь отгадать, что расстроило или растрогало их математичку, их дракона-живоглота, как он сам, впрочем безо всякого зла, скорее с восхищением, прозвал ее.
Неужели то, что почти в последний раз видит она их на своем уроке? Что еще недолгое время — и вообще перестанут они собираться все вместе, станут каждый по себе, без ее вмешательства и надзора?
А почему, собственно, это не может испортить настроения? Расстроить или растрогать? Виктор по себе чувствует: очень может.
Между тем Анна Николаевна уже давно оправилась. Говорит своим обычным голосом, в котором ирония, как всегда, умудряется проскочить между тангенсами и котангенсами. А он не вслушивается ни в какие подробности насчет тангенсов и котангенсов, он думает о том, как не хочется ему расставаться с этими тангенсами, с тетрадями в двенадцать листков и даже с классной неопрятной доской, покрытой рыжим пузырчатым линолеумом. Со всем, что окружает его в этот последний школьный год.
Он чувствует себя так, словно должен выйти на холодный ветер из теплого дома, а провожающие только жмут руки, только желают счастливого пути, вздыхают о погоде, ни один не высунет носа наружу, ни один не зашагает рядом.