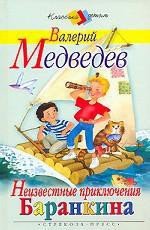Библиотека мировой литературы для детей, т. 29, кн. 3 (Повести и рассказы) - Алексеев Михаил Николаевич (книги онлайн TXT) 📗
— А!.. — досадливо отмахнулась Лина. — Кругом загадки, голову с вами сломаешь.
«Так вот какая нестеровская девушка, — думала Катя. — И я такая? Нет. Как прелестна! Но зачем же она отказалась от жизни? Жаль ее. А я хочу жить. Не хочу покоряться, смиряться. Я не знала тогда, что нестеровская девушка — покорность несчастью. А баба-Кока сказала: „В ней (во мне) и тишина есть, и буря…“».
К обеду они добрались до деревни Комякино. Здесь, в обычной, даже невзрачной, темноватой, с маленькими оконцами крестьянской избе, Нестеров писал свою дорогую картину с утра до ночи. День за днем. Наспех поест, кое-как, не замечая что. Снова за кисть. С утра до ночи. День за днем. Щеки ввалились, лихорадочно горели глаза. К вечеру, разогнув спину, выходил на крыльцо и сидел на ступеньке, пока не опустится осенняя ночь или не примется до утра сыпать нудный, меленький дождик. И не уснуть, и перед глазами все одно, все одно.
Федору Филипповичу тогда шел десятый год. Он был Федей, пытливым, мечтательным мальчиком. Детство так далеко, бесконечно далеко! Совсем иной мир, лучезарный, полный даров и загадок. Федя приходил сюда, в Комякино, с соседней деревенской дачки и тайком, не дыша от участия, любопытства, восторга, следил за рождением картины. Вот выросла сосенка, всего из нескольких веток. Как дитя возле крестьянского мальчика.
Иногда художник спрашивал:
— Он тебе люб? А вот тот осенний лес тебе люб?
Федор Филиппович подозвал старшего сына в очках. Мальчик заспешил развязать тесемку на папке, затянул в узелок, долго не мог справиться с узелком, смущался, краснел; отец терпеливо выжидал, не подгоняя. Вынул лист. Держа за углы, поднял лист высоко. «Видение отроку Варфоломею». И то, что видели они, два с лишним часа шагая из Сергиевской лавры в деревню Комякино, — тихие осенние поля и луга, янтарный свет березовых рощ, пламенеющий багрянец осин и бледное прохладное небо, услышавшее запоздалый прощальный полет журавлей, — все с новой силой открылось им в картине.
«Я это видела. Нет, не видела. Видела, но по-другому как-то, не так. Все знакомо и незнакомо. Что это? Как он сумел?..» — думала Катя.
— Это искусство, — отвечал Федор Филиппович. — Глядите, запоминайте, любите родную землю. Она говорит, поет, мечтает, полна мыслей, чувств. Это наша земля. Это Нестеров. А что вы не спросите о мальчике Варфоломее, как трогательно он поднял худенькие ручки, сплетя пальцы?..
— Будто молится, — заметила Лина.
— Мнение не ново, — сдержанно возразил Федор Филиппович. — Нашлись и среди художников, крупных художников, кто отвернулся от картины Нестерова: мистика, святость. А было так, крестьянский мальчик, обыкновенный крестьянский мальчик, только ясный, как хрустальный день осени, взял оброть и пошел искать в лес лошадь. И видит под дубом старца с сиянием над головой. Не молитва, — строго повел Федор Филиппович взглядом в сторону Лины, — а встреча с чудесным. Вся душа — порыв к правде и красоте… Вот что хотел сказать Нестеров. Глядите, запоминайте: наша задумчивая, наша родная природа. Запоминайте, волнуйтесь: для нас нет в мире больше такой единственной, бессмертной, как наша природа. А нежные краски, тонкие, нестеровские… Я видел, как он писал… — неожиданно строго заключил Федор Филиппович и оборвал свою сумбурную речь.
На обратном пути день переменился. Задул ветер с севера, срывая с деревьев листья и кидая охапками наземь. Быстро, на глазах рощи становились полунагими, октябрьскими, и не золотыми, а ржавыми, небо низким, мутным, но пережитое не остывало в Кате, и она тайно чему-то все улыбалась.
— Рад, что вы поняли, — заметил Федор Филиппович. — Один великий художник сказал: искусство выводит человека из одиночества.
— Вы… — удивилась и смутилась Катя. Взглянула на мальчиков.
Они шли в нескольких шагах, сосредоточенные и молчаливые, не было в них мальчишеской резвости.
— Федор Филиппович, какой был чудесный день! — сказала Катя.
— Знаете что… — решил он. Несколько мгновений глядел на нее, как бы вчитываясь в лицо, и, как бы уверившись в чем-то, позвал: — Мальчишки, сюда!
Они подошли.
— Развяжи-ка, — велел он старшему, тому, что в очках.
Сын, не спрашивая, не удивляясь, развязал папку.
Там было несколько репродукций Варфоломея, Федор Филиппович выбрал одну, тоже в красках, но меньше размером, отчего она казалась еще теплее, прелестней. Федор Филиппович откинул руку с листом, полюбовался, прищурив глаз, и отдал Кате:
— На память!
Решение пришло в тот же вечер нестеровского дня. Внезапно. Не очень самой Кате понятно. Но без колебаний. Надо объявить Лине и Клаве тотчас.
Инстинкт подсказал: нельзя об этом одновременно обеим. Надо врозь.
И после ужина она пошла из трапезной в общежитие с Линой, что обычно означало — в шумной компании общественных деятелей, руководящих и организующих жизнь всего техникума.
На сей раз Лину сопровождал один Коля Камушкин. Зато мероприятие обсуждали они замечательное! Представьте, надумали выпускать литературный журнал. Не стенную газету, задачи которой — политическая информация, лозунги, пропаганда советской идеологии и образа жизни, — стенная газета давно выпускалась, дважды в месяц вывешивалась в учебном корпусе техникума. Был задуман журнал. Та же цель, а средства иные — ли-те-ра-тур-ные! Они будут выпускать рукописный литературно-художественный журнал под названием «Красный педагог» с поэтичным эпиграфом «Сейте разумное, доброе, вечное…».
— Николай, находка! Открытие! — восклицала воодушевленная новым мероприятием Лина. — Мы нащупали дремлющие духовные запросы ребят. Есть ребята, что пишут. Стихи, повести, дневники. Возьми Бектышеву. Не тушуйся, Катя. Знал бы ты, какие повести она раньше писала! Недалеко до Тургенева, честное слово! Дура я, не сберегла; готовый материал, хоть сейчас в «Красный педагог», в отдел прозы.
Увлеченный не меньше Лины идеей журнала, Камушкин был готов продолжать обсуждение за полночь, но Катя тихонько подтолкнула Лину.
— Ведь мы условились…
— Да, правда. До завтра, Камушкин! Ты создан быть секретарем комсомольской ячейки. Я с тобой согласна во всем. А главное, у тебя нешаблонное мышление и вот уж нисколько нет формализма. До завтра, Камушкин. У Кати личное дело…
Она включила в комнате свет, скупую, с самым малым количеством свечей электрическую лампочку, сбросила пальто, плюхнулась на койку.
— Ну? Делись.
Оптимизм и здоровая энергия бушевали в ней. Мучительный самоанализ Лине был чужд. Она считала нытьем и буржуазными предрассудками переживания вроде тех, что знала за Катей, и со вздохом приготовилась слушать очередную интеллигентскую исповедь, разочарования, сомнения…
— Выкладывай.
Спотыкаясь, Катя выложила, что не станет больше писать за Лину конспекты, не станет, не хочет, не может.
— С ума сойти! — ахнула Лина. — Катька, да ведь я по горло, буквально по горло в работе! Не представляешь масштаба! Топливо, писчебумажные принадлежности, пайки, политучеба, морально-идейный уровень — все на мне. А совещания, совещания, совещания! Сегодня в гороно, завтра в райкоме, студком, профком… Ка-а-тя! Пойми!
— Понимаю. Но писать за тебя конспекты не буду.
— Федор Филиппович догадался?
— Линочка, не проси, не буду.
— Да ты объясни, отчего, какая причина?
— Что ж объяснять? Без объяснений понятно.
— Худы мои дела! — пригорюнилась Лина.
Стукнула кулаком по тумбочке — крестьянский кулачок увесистый, — в тумбочке звякнула оловянная миска.
— За каким чертом он нам нужен, этот тип из Америки, Уильям Джемс!
— Если вникнуть, он интересен и довольно понятен, если вникнуть… — сказала Катя.
— Не было печали, черти накачали! Катька, неколебимо стоишь?
— Неколебимо, — вздохнула Катя.
Некоторое время обе молчали. Лина осваивалась с неожиданной новостью, что-то обдумывала.
— Та-ак. Слушай, Катерина Бектышева. А ведь пора мне для тебя общественную нагрузку подыскать. Рано или поздно уколют: живет под крылом безыдейная.