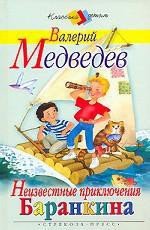Библиотека мировой литературы для детей, т. 29, кн. 3 (Повести и рассказы) - Алексеев Михаил Николаевич (книги онлайн TXT) 📗
— А ты не соображаешь: полез бы объясняться при всех на танцульке, сразу выставил бы тебя напоказ. Тут же заработали бы язычки на все ваше педагогическое общежитие. Тебя от длинных языков оберегал, поняла?
Может быть, он прав. Может быть, его молчание и рассуждения справедливы и благоразумны, но то веселое и легкое, что возникло в ней во время танца, оборвалось. Она чувствовала себя напряженно. Чужой человек ведет ее под руку. Кто он? Максим? Что за Максим?
Они вошли на то запущенное кладбище возле храма, где в первый день прихода в лавру Катя сидела на старом надгробье, поросшем бархатным мхом. Тогда мимо промаршировал красноармейский отряд. Катя не знала тогда, что это курсанты ВЭШ.
— Хочешь, посидим, — предложил Максим.
— Все равно.
Они сели на старое надгробье. Как глупо и плохо все получилось.
Светят сквозь деревья высокие звезды, играют лиловыми и голубыми лучами, а внизу, на земле, во все стороны глушь, тишина. Глушь.
— Не вышло у нас сегодня знакомства, — сказал Максим. — А между прочим, отчасти и вышло. Земляками оказались, оба волжане, вот уж и близит.
— Никакая и не волжанка, — сухо возразила Катя. — Давно это было, в детстве, на Волгу и не пускали без няни.
— С нянями росла?
— Да. Мне пора. До свидания.
Катя поднялась, сделала шаг и споткнулась, едва не упала. Он нечаянно — конечно, нечаянно! — неловко подхватил ее за грудь, на миг она почувствовала на груди его жесткую руку.
Она резко выпрямилась и тотчас нагнулась к земле.
— Что это? На что я налетела?
Она трудно дышала, в темноте не видны были гневные красные пятна и смятение у нее на лице.
— Крест подгнил, повалился наземь.
— Нам нечем топить, возьми, — хмуро приказала она.
Максим пнул ногой крест, вывернул перекладины и понес на плече. И говорил, стараясь не замолчать:
— У нас в Сормове в гражданскую все заборы истопили, ни щепки не сыщешь. Голодуха, от голодухи еще пуще мерзли, терпения нет. Мы с отцом вместе на гражданскую ушли, а вернулся один. Отец слесарем был. Развитой был, по культуре не уступит другому учителю.
— Да? — равнодушно уронила Катя.
Максим донес до комнаты разрушенный крест. Сложил у порога. В комнате пусто, Лина и Клава танцуют в клубе, бывшей домовой государевой церкви. Духовой оркестр играет «Дунайские волны».
— Завтра приду, напилю вам дров, — сказал Максим.
Она молча кивнула.
И он помолчал и сказал:
— Ты гордая. Я и представлял тебя гордой.
Он глядел на нее открыто и ясно. У него серые, переменчивые глаза — то темней, то светлей, глядят не мигая. Прямо. В упор.
И все же, и все же… Больше я никогда с ним не встречусь! Почему? Не знаю. Как было хорошо поначалу! Чудный вальс «Дунайские волны», давно когда-то я слушала перед сном, как Вася играет «Дунайские волны». Маме не нравилось: «После „Лунной сонаты“? Мещанская музыка!» А я слушала, пока не усну. Зачем я вчера ушла с ним из клуба? Позвал, и сразу пошла, и меня оскорбили, и, хоть он говорит, что вправит тому нахалу мозги, не смоешь… А после? Ну, что? Ну, что после?.. Катя Бектышева, ты улитка, ты недотрога, нетерпимая, неотходчивая, не простая. Рассказать Лине, исхохочется… А я? Куда мне уйти? Нет, больше я с ним не увижусь. И хватит думать об этом. Оглянись! Слепая, увидь эту прозрачную осень, золотой свет, разлитый по лугу и полю. Вон вьется дорога среди белой стерни овсов, вон подбежала к холму, на холме оранжевый лес, темными свечами высятся ели между березок. И тишина… но вот…
— Слышите? — спросил Федор Филиппович.
Все остановились, запрокинули голову к небу и глядели в голубую бездонную глубь, стараясь поймать, что он слышит. Тишина. Но вот… Печальный звук долетел откуда-то издали, едва уловимо. И умолкнул. И снова. Ближе, печальней.
— Глядите, глядите!
Высоко на горизонте, над лесом, зачернел вычерченный штрихами на голубизне неба клин.
— Журавли.
Они летели стороной, но уже можно было различить вожака во главе клина, и видны были медленные, редкие взмахи крыльев, и временами доносилось то особенное осеннее курлыканье — то ли зов, то ли прощание, — от которого сердце заноет тоскливо и сладко.
— Из-за одних журавлей стоило сюда прийти, — сказала Катя. — А дали! Ни обрывов, ни крутизны — волнисто, плавно кругом…
— Вы умеете видеть, — сказал Федор Филиппович.
Несколько дней в вестибюле курсового здания техникума на доске объявлений можно было прочитать: «Кто любит видеть и узнавать искусство и природу, собирайтесь в поход по нестеровским местам», — приглашал Федор Филиппович.
Ухватили для похода славный октябрьский денек, ясный, холодный. Впрочем, после полудня солнышко разыгралось, стало даже припекать. В молодом лесочке на холме запылали листья осин; струилась по ветру, текла, кипя блеском, у подножия холма изумрудная озимь. Разноцветными полосами разрисованы сжатые озимые и под паром поля. Неглубокий овражек развалил надвое давно скошенный луг. Ивы свесили длинные плети ветвей, задумались над сонным прудом, и не движется в ограде острой осоки беззвучная речка. Тихая осень. Нестеровская равнинная Русь.
Катя отстала, шла одна. Никто не знал, что вспомнилось ей, отчего кровь встревоженно застучала в висках. Никто не знал, как однажды назвали Катю нестеровской девушкой…
Федор Филиппович крупно шагал впереди группы, как странник, опираясь на сучковатую палку. Здесь, на природе, он казался проще, чем за преподавательским столиком. Нервная гримаса не кривила губы. Он был без шляпы.
По бокам его степенно шагали два мальчика, сыновья-погодки, двенадцати-тринадцати лет, молчаливые и серьезные, старший — в очках с тоненькой металлической оправой. Оба несли картонные папки с тесемками, завязанными бантиком.
Группа, за исключением двух первокурсников и толстовца с четвертого курса, состояла из девиц, как воробьи, не смолкая о чем-то болтавших.
— Девчата, споем боевую, подъемную! — предложила Лина, привыкшая всегда что-нибудь организовывать.
Катя увидела: оба мальчика с беспокойством поглядели на отца. Федор Филиппович впереди группы стал, опираясь на палку.
— Товарищи студенты!
Песня смолкла, оборванная строгим тоном учителя.
— Ваша песня хороша и подъемна, но не для нашего случая. Мы идем слушать нестеровскую тишину, глядеть нестеровские краски, испытать его чувства.
Он взял у младшего сына папку, развязал, вынул лист. Стройные, вытянувшиеся ввысь стволы весенних березок. Деревянные древние кресты меж березок. И девушка. В темном одеянии до земли, наподобие сарафана, но необычном, не «мирском», с белыми длинными рукавами. Белый широкий плат, мантией опущенный с головы на плечи. В руках высокая горящая свеча. И скорбный лик… Да. Не лицо, а лик, тихий, безысходно-кручинный. Вот она какая, нестеровская девушка.
— Этюд к картине «Великий постриг», — сказал Федор Филиппович. — Не вникайте в название, его внешний религиозный смысл. Вглядитесь в глубь. Вглядитесь в русскую девушку. Целомудренность, чистоту, поэтичность увидел в ней и написал художник.
— Со свечкой, в монашеском, — растерянно бормотнула Лина.
— Я вам сказал, что внешне, или вы глухи? — нервно кривя губы, отрезал Федор Филиппович. — Впрочем, это — мое толкование Нестерова.
Он крупно зашагал вперед. Серьезный мальчик, в очках, видимо смущенный резкостью отца, желая смягчить, обещал доверительно:
— Главное дальше.
Дальше наши странники пошли молчаливее и тише, слова Федора Филипповича и картина разбудили что-то, от чего болтовня утихала. Только Лина шепотом делилась с Катей:
— А он чудноватый. Ни от кого таких призывов не слышала. Ты что? — запнулась она.
Потемневшие, казалось, выросшие глаза на бледном лице Кати смотрели мимо, не отвечая.