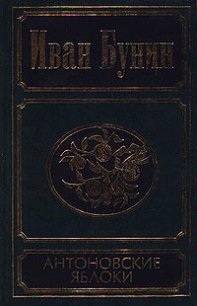Лесные яблоки - Данилов Иван Петрович (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
Я считал две эти песни нашими. Однажды даже поругался с Мишкой, услышав, как его мать пела про сирень.
— Чего она нашу поет? — сказал я. — Никакой у вас сирени нет, вон про клен и пойте.
И своей матери я рассказал об этом. Она засмеялась и объяснила мне:
— Песни, сынок, ничейные. Они для всех.
Я тогда поверил ей, а в новогоднюю ночь опять думал по-старому: все-таки есть у человека своя песня, которая поется им самим или для него.
Шел февраль, вовсю трещали морозы, бушевали метели. По утрам из хат было трудно выйти — двери заносило снегом.
Все меньше и меньше учеников приходило в школу, стало не в чем добираться в такие страшные холода. Однажды не пришла и Енька. Но в середине второго урока она появилась. Вошла в класс как больная, не поднимая глаз.
— Женя, что случилось? — спросила учительница.
Енька промолчала, только ниже опустила голову и закусила губу.
— Почему ты опоздала? — повторила учительница.
Енька выдохнула слезы и медленно, почти по слогам, сказала:
— У меня… погибла… мама…
Она зажала рот ладонью и торопливо пошла к парте, уткнулась в нее. Учительница стала возле, положила руку на плечо Еньки и так молча простояла до звонка. Весь класс будто онемел. Енька была не первой сиротой в классе, но у других погибали отцы, а у нее мать. На перемене Енькину парту окружили девчонки, что-то говорили, успокаивали. И Енька показалась мне совсем маленькой, намного меньше каждого из нас. И потом все старались сделать для нее что-нибудь хорошее, чтобы она не думала про свое горе. Юрка Чапаенок забил торчащий в ее парте гвоздь, Талька на большой перемене сбегала домой, принесла зайчатины и почти весь кусок отдала Еньке. Енька не брала, но Талька уверяла, что сама она поела дома.
В этот день весь наш класс держался вместе. И после уроков вышли за ворота школы все сразу.
— Гля! — удивленно крикнул Юрка. — Глядите…
Все повернули головы. От ветряка к станице двигалась огромная черная толпа.
— Пленных гонят! — догадался Колька Клок и вскочил на забор, чтобы лучше разглядеть.
Мы выбежали на середину улицы, вглядывались в приближающуюся колонну. Вон они, вон. Уже различимы рваные шинели, замотанные тряпьем руки и ноги. Первые ряды пленных миновали школу, а мы продолжали стоять. Все, кто был в школе, высыпали на улицу, из ворот своих домов выходили женщины, старики и торопились на площадь глянуть на пленных вблизи. Голова колонны подошла уже к мосту, а конца не было видно. Пленные запрудили всю улицу. По сторонам шли наши солдаты-конвоиры. Они тоже шли устало и тяжело. Вдруг один пленный задержал взгляд на нас и поманил к себе пальцем. Клок сорвался с места, прошмыгнул между конвоирами и пристроился к колонне.
— Клеб, клеб… — Пленный протягивал руку и показывал в кулаке губную гармошку.
Колька рванулся назад к нам.
— Куска ни у кого не осталось?
— Чего спросил!
На заборе сидел мальчишка-дошкольник с лепешкой во рту, но он ее не ел — отквасив губы, испуганно таращил глаза. Клок вырвал у него лепешку и кинулся догонять немца с гармошкой. Но тот уже затерялся в сером потоке. Колька заметался вдоль колонны, показывая пышку. Пленные потянулись к нему, спешно выворачивали карманы, трясли грязными носовыми платками, маленькими цепочками, а один все совал Кольке зажигалку и какую-то фотографию. Колька полез к нему, но сзади за фуфайку его дернула оказавшаяся рядом Марта-беженка. Колька ошалело поглядел на нее и отскочил в сторону.

Подходили новые родничковцы. Сбившись в кучку, люди строго глядели на чужих солдат. Иные пленные не выдерживали множества взглядов и опускали головы, другие шли гордо, ни на кого не обращая внимания.
— Смотри, как вышагивает! — показал Волдырь на высокого, с заросшим лицом немца и засмеялся.
Я тоже засмеялся: одна нога немца была в сапоге, другая — в коротком стариковском валенке. Но он будто не знал этого и печатал шаг, как на параде.
Гордились больше немцы, а румыны, итальянцы шли понурые, тяжело передвигая ноги, и их немые серые лица сливались в одно угрюмое лицо. В толпе, где стояли женщины, кто-то громко охнул, и в колонну полетели куски вареной свеклы. Пленные, давя друг друга, стали хватать свеклу — одни на лету двумя руками, другие со снега — и судорожно совать в рот.
Мы застыли в изумлении. Кто, кто мог это сделать? Ведь это же враги!
А пленные все шли и шли…
Вечером я рассказал матери про пленных и как кто-то бросил им свеклу. Голос мой дрожал от негодования.
— Они тоже люди, Толя, — устало сказала мать.
— Какие они люди? — закричал я. — Они враги! Убили Мишкиного отца, Енькину мать…
Мать говорила, что не все шли воевать с охотой, их заставляли. Но я ничего не хотел слушать, я не верил словам. Они убили… Скольких отцов они убили!
„Мы вас будем помнить“
Родной мой дом, деревенская хата под почерневшей соломенной крышей, я пришел сегодня к тебе. Это неважно, что на том месте, где стояла ты, теперь только серый холм и о жилье напоминают лишь одичавшие кусты сирени. Я вижу твои чистые, хоть и невысокие окна, твои двери, обитые старым войлоком. Я открываю эти двери и слышу все твои звуки, вдыхаю твои запахи…
Метет, метет за окнами, завывает ветер, а я сижу на полу около раскаленной металлической печки и пеку в жарких углях украденный у матери семенной лук. Он таким сладким был, тот горький лук…
Солнечные зайчики играют в догонялки по прибранной к весне хате, дрожат на белых, еще пахнущих глиной стенах. Мать сидит у окна и расплетает тяжелые косы. Отец любил ее косы, и она берегла их…
Жарким летом хата пахла чабором и полынью, осенью — кочанами капусты и сушеным терном, рассыпанным на печи.
В разных домах приходилось мне жить — в избах из чистого соснового теса и в стеклянных дворцах, — но всякий раз, когда к сердцу подступала тревога или нужно было спросить о чем-то свою совесть, я всегда приходил к тебе, моя деревенская хата. Я опять видел мать, ее потрескавшиеся руки, слышал, как во второй, так и не достроенной отцом комнате вздыхает наша корова, которая должна отелиться со дня на день.
В эти минуты вижу я не только начало своей жизни, но и что-то большее, касающееся не только меня.
…Мы с матерью поправляли во дворе ветхие, совсем рассыпавшиеся от зимних буранов плетни. Жидкая земля липла к ногам, она еще не успела впитать снеговую воду, но солнце припекало, и далекие степные курганы уже зазеленели. Я наплетал верх огорожи и все поглядывал на Куликову гору — к вечеру мы договаривались поиграть там в лапту. Мать поднесла новое беремя хвороста и, бросив его у моих ног, сказала:
— Скоро в поле. А на чем пахать будем? Быки стоят подвязанные к перекладинам. Опять коровок начнем запрягать… Загубим скотину.
Мать постояла немного и снова принялась за работу. В воротах показалась Мишкина голова.
— Ты пойдешь? — крикнул он.
Я помедлил с ответом.
— Погоди, Миша, немножко. Сейчас он, — отозвалась мать.
За забором Крючковых девчонки стучали мячом.
— Пойдем на гору, — позвал их Мишка. — Мяч свой можешь не брать, — сказал он выглянувшей Тальке, — у нас есть. — Он поднял над головой свой, сшитый из тряпок.
— Ничего и с этим не сделается, — весело заверила Талька. — Небось не разобьют. — И пообещала: — Мы догоним…
— Пойдем завтра за китушками? — спросил меня Мишка. — Верба уже цветет.
— Время уж, — согласился я, — скоро сев начнется. Наверно, снова на коровах будут пахать.
— Наша еще не отелилась, на ней нельзя.
— Это как скажут, а то и на стельной, — возразил я, хотя понимал: такого не может быть. Если что случится, как же тогда жить Железняковым?
На плацу возле танка играла малышня. Повиснув животами на стволе, ребятишки пробовали повернуть башню. Я взглянул на них, и меня осенило: