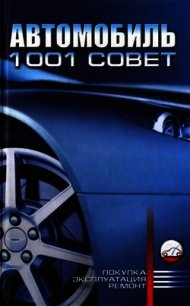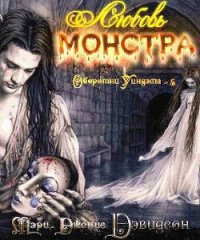Гедеон - Эндрюс Рассел (книги хорошего качества .TXT) 📗
Стены кабинета были увешаны карандашными и угольными набросками. Их было не меньше семидесяти пяти. И с каждого смотрело лицо человека. Одного человека. Некоторые рисунки изображали его в профиль, остальные — анфас. Некоторые были прорисованы до мелочей, на других акцент делался только на отдельных деталях — прическе, глазах, носу. Олдермен Геллер, несомненно, очень талантливый художник, был явно одержим мыслями об этом человеке. Рисунки с поразительной точностью схватили его черты. Высокомерие. Жестокость. Мужественную красоту и самоуверенную манеру поведения.
— Вы его знаете? — спросил олдермен Геллер.
— Да, — ответил Карл.
— Расскажите мне про него.
— Его зовут Гарри Вагнер.
— Вы знаете, где он?
Карл кивнул.
— Он мертв.
— Вы его убили?
— Нет.
— Как он умер?
— Мучительной смертью.
Впервые лицо Лютера Геллера стало не таким напряженным. Словно исчезла частичка горя, которое грызло этого человека.
— Хорошо, — произнес он. Затем медленно засунул пистолет в карман, сел за стол и сложил перед собой руки. — А теперь расскажите подробнее о той важной информации, которой, по вашему мнению, обладает Одноглазая Мамочка.
Пэйтон рыгнул и ощутил во рту неприятный привкус проглоченного примерно час назад жирного жареного цыпленка, кукурузного хлеба с острым красным перцем и сиропно-сладкой кока-колы.
Он не хотел, чтобы его видели, особенно парень и девчонка, и потому пришлось есть в какой-то забегаловке. Надпись на ней гласила, что это церковь. Ага, точно. Какая, интересно, гребаная церковь будет продавать жареных цыплят? Только здешняя, в этой чертовой дыре. А придурки, которые его обслуживали? Настолько глупы, что, когда он попросил сэндвич, ему подали два ломтя белого хлеба и куриную ногу! Будто он сам должен ее обдирать! Или жрать с костями! На какой-то миг бешенство ослепило Пэйтона. Он мысленно вернулся к той ночи в полицейском участке, вспомнил, как держал мертвой хваткой Юсефа Гиллиама, а потом отделал его как следует, вспомнил свою безудержную ярость. И все, что случилось потом: увольнение, унижение, крах всех честолюбивых мечтаний. Крах всей жизни. Пэйтон чуть было не схватил за грудки официанта, который принес ему хлеб и куриную ногу. Бывший полицейский вдруг понял, что готов убить этого олуха! Пэйтон потряс головой, чтобы прочистить мозги. Какого черта он так раскипятился? Это всего лишь сэндвич! Значит, здесь, на Юге, люди еще тупее, чем в Нью-Йорке. Ну и что? Удивительно, подумал Пэйтон. Никто тебя толком не понимает! Но, по ходу дела, это не так важно. Нельзя грохнуть человека только из-за того, что он не знает, как приготовить сэндвич с цыпленком.
Жаль, что нельзя.
Они все еще там, парень и девчонка, в городской ратуше. Черт, о чем можно так долго болтать? Может, просто войти и узнать? Ворваться в ратушу и тряхнуть их как следует? Закончить все прямо сейчас. Будет совсем нетрудно…
Нет, лучше подождать. О чем это он думает? Пэйтон понял, что становится слишком несдержанным. Хуже всего будет, если поднимется суматоха и его увидят. Дело нужно провернуть втихаря, чтобы никто ничего не узнал. В этот раз он не имеет права облажаться. Задание очень важное. И если он справится, то последуют новые.
Он слишком долго находится вне Нью-Йорка, вот в чем проблема. Обход территории, насилие, наркоманы, сутенеры, действие — вот там он в полном порядке. Это то, что ему нужно. Он потому и был классным копом. Отправь Пэйтона на станцию подземки, где какой-нибудь пуэрториканец, угрожая ножом, пытается снять с еврея кроссовки, и он наведет там порядок. Там он в своей стихии. Не то что здесь, где все так чисто, кругом зелень, а люди вежливые и никуда не торопятся. Не нравится ему этот город. Не нравится вежливость. Убраться бы отсюда, да поскорее.
Можете говорить все, что вздумается, но он, Пэйтон, никогда не бросает дело, не закончив, так думал бывший полицейский. Может, вам не по душе способы, которыми он добивается цели, но, главное, он ее всегда достигает. Он всегда выполняет заказ.
Всегда.
И потому он подождет. Подождет, пока не удастся настичь голубчиков в каком-нибудь тихом, удобном местечке. Пока не представится случай завершить работу, из-за которой он торчит в этой дыре.
Ага, вот они, выходят. Все трое. Выглядят, как лучшие друзья.
Пэйтон повернул ключ в замке зажигания. Машина завелась сразу. Вот что значит работать на крупную шишку! Все заводится с пол-оборота.
Они уже выезжают с парковки. Куда это они направляются? И тут до Пэйтона дошло: а какая, собственно, разница? В конечном итоге он все равно их достанет.
И все-таки в душе Пэйтон питал надежду, что прикончит их поскорее, съест нормальную, приготовленную для белого человека еду и свалит отсюда к чертовой матери.
— Мамочка?
В доме было темно, и на миг Карлу показалось, что там нет электричества. Лютер Геллер протянул руку вправо, щелкнул выключателем, и под потолком, в центре комнаты, зажглась лампочка, свисающая с балки. Абажура не было. Лампочка осветила скудно обставленную, но безукоризненно чистую комнату. Словно у живущей в ней женщины не было других дел, кроме уборки. В комнате стояла кушетка, знававшая лучшие дни, и два стула с прямыми спинками. Застеленный линолеумом пол, на стенах — голубые обои в цветочек, кое-где покрытые пятнами от влаги и ободранные. Посредине комнаты, на металлической подставке, красовался маленький телевизор.
— Мамочка? — вновь позвал олдермен Геллер. — Кларисса Мэй? Это Лютер.
В ответ последовало молчание.
— Я привел двух друзей. Настоящих друзей. Они думают, что могут прекратить это безумие.
Опять ничего, кроме молчания. Затем Карл слегка наклонил голову. Ему почудилось, что он слышит… нет, не может быть… да. Он посмотрел на Аманду и понял, что она тоже слышит это. И Геллер слышит.
Пение.
Низкое, чуть хрипловатое, слабое и почти монотонное пение. Трудно было разобрать, чей это голос, мужчины или женщины, но он пел:
— Псалмы, — произнес Лютер и улыбнулся. — Она любит петь псалмы. — На миг он замолк, затем позвал снова: — Мамочка?
Голос продолжал петь все так же тихо, таинственно и немного жутковато.
Они подошли к двери, которая была в самом конце помещения, слева. Лютер приоткрыл ее, совсем немного. Затем чуть больше. Потом толкнул посильнее, и дверь подалась с протяжным скрипом. Они вошли в крошечную спальню, такую же убогую, как соседняя комнатушка. Узкая кровать и гнутое кресло-качалка составляли почти всю обстановку. В качалке сидела крошечная негритянка, на нее падал свет единственной лампы. Маленькая, не выше метра пятидесяти, женщина выглядела истощенной, словно скелет. На запястьях сильно выступали кости. Кожа, туго обтягивающая плечи и ключицы, была почти совсем гладкой.
Но самым необыкновенным в ее внешности было лицо. Женщина уже достигла восьмидесятилетнего возраста, но ни одна морщина не коснулась ее лба. У негритянки были высокие, идеальные скулы. Тонкие губы напоминали прорезь, и рот казался маленьким и узким. У нее было лицо красивой молодой женщины.
Если бы не глаз.
Правый глаз был прекрасен. Вошедшие заметили пронзительный блеск этого темно-карего глаза, когда женщина в упор посмотрела на них. Но ее левый глаз окружало пятно, идеально ровное и черное, намного темнее, чем кожа густого коричневого цвета. Карл вспомнил описание, которое прочитал в дневнике, — каким точным оно оказалось! Круглое родимое пятно, захватившее щеку и нос, блестело, почти сияло.