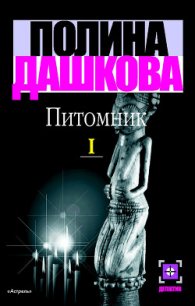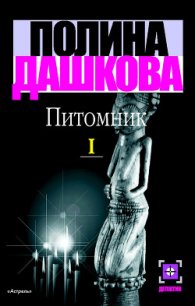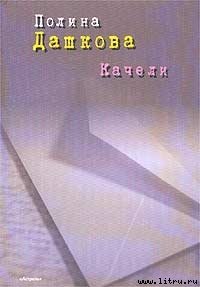Эфирное время - Дашкова Полина Викторовна (читаем книги .txt) 📗
– Софья Константиновна... Сонюшка, девочка, – граф спрятал письмо в карман и быстро поцеловал ее тонкие холодные пальцы, – я все понимаю. Я отпущу вас, разумеется, но давайте сначала поговорим.
– О чем?
– Поручик Данилов был вашим женихом?
– Какая разница теперь?
– Нет, я должен знать. Мы с вашим отцом близкие приятели, и у него от меня нет секретов. Если бы у вас появился жених, Костя рассказал бы мне непременно. Он ведь живет вашей жизнью, Сонечка, и только о вас ему интересно разговаривать. А кроме меня, поделиться не с кем. Так вы были помолвлены с поручиком Даниловым?
– Нет.
– Расскажите мне о нем. Ваш отец ведь ничего не знает, и совсем уж жестоко, если вы исчезнете, уедете на фронт, а он так и не узнает, ради кого.
– Иван Данилов – старший брат моей гимназической подруги. Мы познакомились год назад, на детском благотворительном балу в Москве. Мы танцевали весь вечер, и я поняла, что люблю его. Он понял это еще раньше, сразу, как только меня увидел. Мы встречались редко, он почти сразу вернулся на фронт, писал мне, но не к тетке, а на свой домашний адрес. Наташа, его сестра, передавала письма. Один раз он.приехал в отпуск, всего на сутки. Мы целый день бродили по Москве, был мороз, мы грелись в кондитерских и в кинематографе. Мы поклялись друг другу, что никогда не расстанемся, даже если ему суждено погибнуть, я никогда его не предам, ни за кого другого не выйду замуж, уйду на фронт сестрой милосердия или в монастырь. Последнее для меня слишком тяжело, я не так глубоко верую, а фронт – это выход, это спасение.
– Сколько лет ему было? – шепотом спросил граф.
– Двадцать,
– И он принял эту вашу клятву?
– Да. Потом он уехал и писал мне, что только моя любовь спасает его там, в грязи и ужасе, от пули, от безумия, от пьянства. И вот теперь... – слезы, долго копившиеся в ее горле, выплеснулись наружу, – он, погиб, так страшно, так оскорбительно... не пуля, не бомба, не газ, даже не штыки, а сапоги грязной банды озверевших дезертиров. Его затоптали насмерть. В полку появились какие-то люди, они вертелись около солдат, призывали убивать офицеров, бросать оружие, брататься с немцами. Иван поймал одного такого, с целой кипой листовок, бросил листовки в костер, а провокатора отхлестал перчаткой по щекам и велел выпороть. А потом, вечером, на него напала целая банда дезертиров. Так случилось, что помощь подоспела слишком поздно. Наташа рассказала в своем письме все очень подробно и вложила в конверт письмо от поручика Соковнина, товарища Ивана, и я как будто видела все своими глазами, не просто видела – чувствовала его боль, его ужас. Как же я могу жить после этого? Кататься на велосипеде, есть землянику, играть ноктюрны Шопена? – Она зло растерла кулачком слезы по щекам. – А теперь отпустите меня, Михаил Иванович.
– Никуда я вас не отпущу. Можете кричать, драться. Пока вы не успокоитесь, не отпущу.
Она хотела сказать что-то, губы ее дрожали, по щекам текли слезы. Граф не дал ей говорить, резким сильным движением прижал ее голову к груди, уткнулся носом в нагретую солнцем макушку и зашептал отчаянно быстро:
– Я не хочу, чтобы вы уподобились тем пьяным дезертирам, которые затоптали живого человека насмерть сапогами. Ваш поступок именно таков, вы убьете, погубите вашего отца, бабушку, вы затопчете их, они не просто погибнут, а с такой же болью, как этот бедный поручик, причем боль эта будет куда сильнее, потому что душа болит нестерпимей, чем тело. Я не говорю о себе, это совсем не важно, но все-таки учтите, вы убьете сразу троих. Я сопьюсь совсем, сойду с ума, если не будет больше шороха шин, звона вашего велосипедного звоночка. Я умру, если никогда больше не увижу, как вы сидите с книгой на веранде, не услышу, как вы играете на рояле. Я старый, никчемный, пустой человек, меня почти нет, но я никуда вас не отпущу, просто потому, что я люблю вас, Сонечка.
Плечи ее уже не вздрагивали. Она замерла, уткнувшись лицом в его грудь, и как будто даже перестала дышать. Они сидели молча на влажной от вечерней росы траве, и было слышно, как разрываются в сумеречном крике деревенские петухи, – как всплескивает рыба в речке Обещайке.
Граф тихонько поглаживал ее черные блестящие волосы, и собственная ладонь казалась ему тяжелой, грубой. Наконец Соня высвободилась из его рук, вскинула к нему лицо и тихо произнесла:
– У вас очень сильно сердце бьется, Михаил Иванович.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Щенка назвали все-таки не Варькой, а Фридой. Вася объяснил, что у соседей по старой квартире была немецкая овчарка с таким именем. Целые дни Варя проводила со щенком, и ее устраивала эта компания.
В гости к Васе Соколову никто никогда не приходил. Варе казалось, у него нет не только друзей, но и родственников. Она знала, что где-то на Войковской живут его мать и совсем старенькая бабушка. В новостройке пока не было телефона, вероятно, Вася звонил маме и бабушке с работы. Он почти ничего не рассказывал о своем детстве, о службе в армии, о том, что происходит у него на службе сейчас. Ему так нравилось превращать свою жизнь в нечто таинственное, закрытое, засекреченное, что получалось, у него просто нет ни прошлого, ни настоящего. Впрочем, у нее тоже не было. Иногда она ловила себя на том, что существует вне времени, и даже вне пространства, на десятом этаже белой, как снег, панельной новостройки, со снежным пустырем за голым окном. Пустырь сливался с белесым зимним небом, и она как будто парила в невесомости, в полупустой двухкомнатной квартире. Матрац на полу, кухонный стол, две табуретки, холодильник, кое-какая посуда в сушилке над кухонной мойкой.
Когда она спросила, почему он не покупает мебель, ну хотя бы кровать, он буркнул в ответ:
– Если покупать, то сразу хорошую. А на хорошую пока не хватит. Я и так выложился на квартиру.
Она, разумеется, не знала, что ему нравится спать с ней на матрасе, и голая комната напоминает ему пустую малюшинскую коммуналку.
Когда он возвращался, когда она слышала скрежет ключа в замочной скважине, у нее замирало сердце. Его руки, грубые, сильные, каждый раз как будто заново вытаскивали ее из ледяной смертельной воды.
Когда он наваливался на нее, ей слышался жуткий сухой шорох грязных льдин на Москве реке. Она прижималась к нему, согреваясь. Часто он делал ей больно, но она не замечала, потому что каждая клеточка ее тела отчетливо помнила смертельную боль, когда раздирает на куски ледяная вода, словно стая голодных пираний.
Он говорил ей много обидных, злых слов, но при этом глаза его глядели спокойно, пристально, в упор, и ей казалось, что думает он совсем не то, что говорит, просто у него склочная, мерзкая, неблагодарная работа, он очень устает. Он никогда не улыбался, и за его многозначительной серьезностью ей мерещились мужественные тайны, опасности, возможно даже подвиги. Ей было всего семнадцать лет, и никаких других мужчин, кроме него, она не знала. Маньяк Тенаян, разумеется, не в счет.
Однажды вечером она услышала возню у двери, взглянула на часы, подумала, что Вася сегодня вернулся раньше обычного, выскочила в прихожую. Фрида тоненько загавкала, закрутила хвостом. Дверь медленно открылась. Вместо Васи в квартиру вошли двое совершенно незнакомых мужчин, молодой и пожилой. Она вскрикнула, но скорее от неожиданности, чем от страха, потому что молодой улыбнулся и сказал:
– Привет, красавица.
– Здравствуйте, – Варя протянула и зажгла свет в прихожей.
Фрида радовалась гостям, прыгала и вертелась волчком. Она была еще слишком маленькой, чтобы отличать чужих от своих.
Молодой выглядел нормально. Высокий, крепкий, с круглым простоватым и вполне добродушным лицом, в дорогой канадской куртке, в новеньких черных джинсах. Пожилой напоминал пугало. Маленький, тощий, как скелет, совершенно лысый. Глазки у него были такие крошечные, а надбровные дуги так сильно выпирали, что казалось, это не лицо, а череп с пустыми черными глазницами.