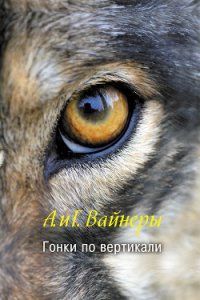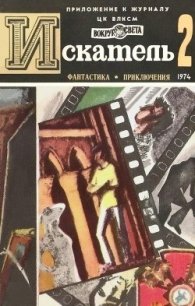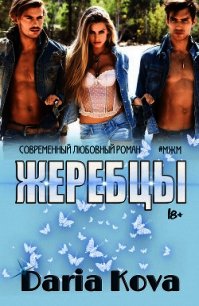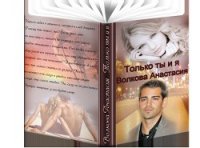Гонки по вертикали - Вайнер Аркадий Александрович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
Он положил трубку, взглянул на меня удивленно – что это еще за фланирующие личности? – сказал и спросил одновременно:
– Итак, жизнь продолжается. Сводку читал?
– Читал.
– Я вчера допрашивал потерпевшего, и когда он мне рассказывал, на какую удочку его выудил вор – он телефонным монтером прикинулся, – то невольно вспомнил историю двадцатилетней давности, – Шарапов хмыкнул и замолчал.
– Что за история? – спросил я без интереса.
– Я на работу через Трубную площадь ходил, и там на лотках два деятеля продавали сухой кисель. Помнишь, был такой розовый порошок в продаже?
– Помню.
– Вот я и обратил внимание, что у одного всегда стоит очередь, а у другого кисель берут совсем редкие прохожие. И стало это мне любопытно, и любопытствовал я до тех пор, пока не посадил продавца с богатой клиентурой.
– Почему? – удивился я.
– Потому что он был житейский философ. Практическую психологию хорошо смекал: он в ягодный концентрат ценою двадцать три рубля кило добавлял ровно половину сахара за девять рублей кило. На каждом килограмме товара он зарабатывал четырнадцать рублей, и покупатели охотнее брали его кисель – он был много слаще.
Шарапов, видимо, хотел пояснить свою мысль о сладком киселе, который нравился обворованному телефонным мастером человеку, но я глубоко вздохнул и быстро, как человек, прыгающий в холодную воду, перебил его:
– Владимир Иванович, у меня неприятность произошла…
Он слушал внимательно, не перебивал меня, не смеялся и не сердился, а только рисовал все время на бумаге какие-то затейливые фигуры – ромбики, кружки, кресты, соединял их между собой, какие-то части заштриховывал, и получался сложный орнамент. И на меня не смотрел, отчего мне казалось, будто он плохо слушает мою историю, продолжая раздумывать о практических психологах и любителях сладкого киселя.
Я договорил до конца, тяжело вздохнул, мы помолчали, потом Шарапов спросил:
– А почему же он на паспорт этот Репнина сдал объявление? – И по-прежнему на его лице не было ничего, кроме скуки, но мы с Шараповым работали давно, и я сразу же безотчетно уловил в нашем разговоре дрожание незримой струны, какой-то непонятный нервный трепет, для постороннего человека совершенно непостижимый за ватной маской недвижимого шараповского лица. Мне даже показалось, будто он изо всех сил сдерживается, чтобы не вскочить, не затопать на меня ногами, не заорать тонким сердитым голосом, и я никак не мог понять причины его гнева – ведь в конце концов любой на моем месте мог стать жертвой выходки Батона. Наконец Шарапов отверз уста – мне, ей-Богу, другого слова и не подобрать: он не сказал и не заговорил, а именно отверз уста. Разлепил, чуть приоткрыв сухие губы:
– При твоей внимательности, будь это на фронте, тебя в первой вылазке убили бы…
– Владимир Иваныч, ей-Богу, не понимаю, о чем ты говоришь.
– Я вижу. Прошу тебя – вспомни, с чего мы начали сегодняшний разговор?
– О киселе мы вроде бы говорили… – неуверенно сказал я.
– А до этого? Я спросил тебя, читал ли ты сводку! – тихо сказал Шарапов и побелевшими растопыренными пальцами обеих рук уперся в столешницу. Меня осенило.
…Репнин! Репнин! Господи, как же это я мог забыть!
– Репнин… – сказал я растерянно, – кража в квартире, сберкасса, преступником похищен дареный именной браунинг…
– Именно браунинг, – повторил Шарапов. – А это означает, что теперь твой друг Батон вооружен.
– Но зачем ему оружие? Ведь он «майданник», никогда не лазил он по квартирам. Воры ведь почти никогда не меняют своей «окраски»…
– Во-первых, меняют. Во-вторых, лазил он и раньше.
– Откуда вы знаете?
– Я хотел тебе дать отдохнуть хоть в праздники и не стал вызывать тебя вчера. С повинной пришел вор, бывший вор Бакума. Знакомый мой.
– И что?
– Из ряда вон случай. В пиковом я положении.
– Вы? А вы-то почему?
– Чистосердечное признание может быть признано таковым в случае, если преступник исчерпывающе пояснил, когда, где и с кем он совершал преступления. А он не говорит, с кем домушничал. Написал заявление на пяти страницах: когда и где, при каких обстоятельствах совершал кражи, перечисляет похищенное и обязуется возместить ущерб. А с кем – не говорит…
– А почему положение-то пиковое?
Шарапов насупленно, недовольно покосился на меня:
– Потому что он теперь стал честным человеком. Совсем. А его судить будут. Должны, во всяком случае, судить, особенно если он не назовет подельщика. Потому как для закона полуправды не существует.
– Я тоже этого не понимаю: если он совсем честным стал, если он такой честный теперь, пусть говорит, с кем воровал раньше.
– С такой логикой в крестики-нолики хорошо играть, а не людей судить. Тебе просто – ты себя чувствуешь одновременно ж сыщиком, и судьей, и законом. А я человек старый и, может, чего-нибудь не понимаю, но вот с законом я себя не объединяю. Закон – это закон, а я человек.
– Человек, – повторил я. – Но человек на службе у закона.
– Да. А Бакума – человек, стоявший много лет против закона. Но мы с ним оба люди, поэтому мы много внаем друг о друге, и, может быть, тебе это дико от меня слышать, но я вот лично в его честность меньше поверил бы, кабы он полностью сдал своего подельщика.
Я зажал пальцами уши:
– Владимир Иваныч, будем считать, что твой подчиненный не слышал еретических откровений…
Он пожал плечами:
– Ты ведь знаешь – я ничего шепотом не говорю, чего вслух повторить бы побоялся.
– Бьюсь об заклад, начальство не одобрило бы такой точки зрения.
– Это смотря какое начальство. Оно ведь разное бывает, и у начальников точки зрения бывают разные. Для сиюминутной пользы правопорядка, конечно, лучше было бы, чтобы Бакума назвал своего компаньона. А если чуть шире статистики уголовной и нашей отчетности взглянуть, то выходит, что гораздо важнее, когда на сороковом году старый вор в законе Бакума стал честным человеком.
– Может быть, – пожал я плечами. – Но вы-то сами не опасаетесь, что это у вас в душе звучит чувствительных струн перебор?
– Не опасаюсь, – отрезал Шарапов. – У меня с чувствительностью нормально, я соплей христорадских насмотрелся. А Бакума знал, когда сюда шел, что его повинная без полного признания принята не будет. Он только надеялся…
– На что?
– Что ты его от предательства избавишь и сам возьмешь подельщика. Он ведь от своей доли ответственности не отлынивает, готов кару нести.
– Так если он стал честным, то какое же это предательство – вора передать закону? Тут где-то у тебя, Владимир Иваныч, конструкция трещит – или в честности его, или в предательстве!
– Не понимаем мы сейчас с тобой друг друга, – растерянно развел руками Шарапов. – Наверное, потому, что выросли мы с тобой в разное время. Вокруг тебя полно людей хороших, и, чтобы достать одного плохого, тебе другого, хорошего, заломать не жалко.
– Мне хорошего заломать жалко, – зло ответил я. – Только не такой уж хороший этот Бакума. Он вор, который согласился больше не воровать. Не такая уж это замечательная добродетель у нормального человека.
– И в этом ты прав, – покорно согласился Шарапов. Долго задумчиво молчал и совсем неожиданно закончил: – Двадцать пять лет мне понадобилось протрубить, чтобы понять вот здесь, – он показал рукой на сердце: многие преступники похожи на беспризорных, шкодливых сирот, потерявших своих мамок…
– А кто их мамка была?
И он ответил очень просто, спокойно и от этого необычайно значительно, весомо, точно:
– Люди. То есть человечество…
Что-то расхотелось мне спорить с Шараповым, и я сказал, чтобы как-то закончить наш разговор:
– Вот одна такая сирота человеческая по имени Алексей Дедушкин и нашкодила уже.
– Да. И мне кажется, что именно его не захотел назвать Бакума.
– А почему ты их связываешь?
– Не знаю. Сердце мне подсказывает. Ну и, кроме того, дерзость исполнения, необычность замысла – Бакума сам на это не способен. Вообще, там много деталей наводит на такую мысль. В частности, давно знакомы они.